Риторические приемы современного русского литературного языка. Опыт системного описания [2, стереотипное ed.]
Монография посвящена системному описанию риторических приемов как осуществляемых в речи прагматически мотивированных и м
1,510 157 3MB
Russian Pages 576 Year 2012
Polecaj historie
Citation preview
Г. А. Копнина
РИТОРИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА ОПЫТ СИСТЕМНОГО ОПИСАНИЯ
2-е издание, стереотипное
Москва Издательство «Ф 2012
»
ББК 80(035.3) УДК 61.2Рус-5в6 К65 Р е ц е н з е н т ы: доктор филологических наук, профессор Э. М. Береговская доктор филологических наук, профессор О. В. Фельде
К65
Копнина Г. А. Риторические приемы современного русского литературного языка: опыт системного описания [ ]: монография / . . . – 2., . – М.: Ф , 2012. – 576 с. ISBN 978-5-9765-0824-8 Монография посвящена системному описанию риторических приемов как осуществляемых в речи прагматически мотивированных и моделируемых отклонений от нормы в ее широком (философском) понимании. Характеризуются системные свойства риторических приемов: мотивированность отклонения от нормы, способность к нейтрализации, моделируемость, функциональная близость, способность к взаимодействию между собой. Предложена классификация риторических приемов на основе принципов их построения. Для филологов: исследователей проблем риторики, преподавателей, аспирантов, студентов, – а также тех, кто интересуется вопросами выразительных средств современного русского языка и проблемой повышения эффективности речи в ее воздействующей функции.
ББК 80(035.3) УДК 61.2Рус-5в6
ISBN 978-5-9765-0824-8
© Копнина Г. А., 2012 © Издательство «Ф
2
», 2012
ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................. 7 Часть I. ПОНЯТИЕ РИТОРИЧЕСКОГО ПРИЕМА В ЕГО ОТНОШЕНИИ К СИСТЕМЕ ЯЗЫКА И РЕЧИ………………………….….13 Глава 1. Проблема системного осмысления нормы в современной лингвистике.............................................................................................................. 14 1. О философском понимании нормы в современном языкознании .................... 14 2. Широкое и узкое понимание языковой нормы .................................................. 18 3. Понятие речевой нормы и дискуссионные вопросы его трактовки ................. 22 3.1. Нормы речи как нормы текста ...................................................................... 23 3.2. Нормы речи как нормы вербального поведения, или лингвопрагматические нормы……………………………………………...37 3.2.1. Закон, принцип, постулат, максима, правило речевого поведения / общения: к проблеме определения понятий .................. 38 3.2.2. Проблема классификации принципов и постулатов речевого общения ................................................................................................. 49 3.3. О взаимосвязи текстовых и лингвопрагматических норм ......................... 62 Глава 2. Риторический прием как прагматически мотивированное и моделируемое отклонение от нормы или ее нейтрального варианта........... 87 1. Отклонение от нормы как базовый принцип построения риторических приемов и его возможная нейтрализация ........................................................... 87 1.1. Отклонение от нормы и смежные понятия: отклонение от стереотипа, отклонение от стандарта, отклонение от нулевой ступени, нарушение нормы, колебание нормы, аномалия............................................................ 87 1.2. Типология отклонений от нормы и понятие риторического приема; дискуссия о целесообразности / нецелесообразности использования идеи отклонения при определении фигуры / приема.................................. 99 1.3. Принципы построения риторических приемов: определение понятия и проблема классификации………….........................................................117 1.4. О градационном шкалировании нормы и отклонении от нее……….…..122 1.5. Понятие нейтрализации применительно к риторическому приему ........ 128 2. Понятие модели в лингвистике и моделируемость риторического приема .. 139 2.1. Понятие и свойства модели в лингвистике................................................ 139 2.2. О моделируемости риторического приема в аспекте его соотношения с понятиями речевой тактики и речевого жанра ....................................... 148 3. Риторический прием в системе языка и речи ................................................... 163 ВЫВОДЫ ................................................................................................................ 180
3
Часть II. ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ РИТОРИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ………..................................................................................................184 Глава 1. Из истории разработки принципов классификации риторических приемов ......................................................................................... 185 1. Традиционные подходы к типологии риторических приемов........................ 185 2. Нетрадиционные подходы к типологии риторических приемов в современном отечественном языкознании .................................................... 215 2.1. Классификация риторических приемов Т. Г. Хазагерова и Л. С. Шириной ........................................................................................... 215 2.2. Тропы и фигуры как область паралогики (Е. В. Клюев) ........................... 222 2.3. Языковые аномалии как значимые отклонения от принятых стандартов (Т. Б. Радбиль)………………......... ..……………………….....228 2.4. Соблюдение / несоблюдение качеств речи как основное предназначение выразительных средств и приемов и основание их классификации (В. П. Москвин)….......……………….… ..... …………….233 2.5. Риторические приемы как область параонтологии (А. П. Сковородников) ................................................................................... 241 Глава 2. Опыт общей классификации риторических приемов на основе типов и операторов отклонений....................................................... 247 1. К основаниям классификации риторических приемов. Принцип, тип и оператор отклонения: соотношение понятий................................................ 247 2. Риторические приемы, основанные на отклонении от собственно языковой нормы или ее нейтрального варианта ............................................. 258 2.1. Риторические отклонения от фонетической нормы.................................. 259 2.1.1. Риторические отклонения от орфоэпической нормы ..................... 259 – отклонения с операторами прибавления........................................ 262 – отклонения с операторами убавления ........................................... 265 – отклонения с оператором перестановки как типом переноса...... 268 – отклонения с оператором замещения ............................................. 269 – отклонения с несколькими операторами ....................................... 270 2.1.2. Риторические отклонения от акцентологической нормы с оператором смещения как типом переноса ....................... 271 2.1.3. Риторические отклонения от интонационной нормы...................... 272 – отклонения с оператором замещения .............................................. 272 – отклонения с оператором расчленения ........................................... 272 2.2. Риторические отклонения от лексико-фразеологической нормы или ее нейтрального варианта...................................................................... 275 – отклонения с операторами прибавления.................................................. 278 – отклонения с операторами убавления ...................................................... 279 – отклонения с операторами переноса ........................................................ 280 · отклонения с оператором семантического переноса............................. 280 ·· семантический перенос по сходству.................................................... 290 ·· семантический перенос по связи и смежности ................................... 314
4
·· семантический перенос по контрасту................................................. 328 · отклонения с оператором переноса коннотации................................... 331 – отклонения с оператором перестановки .................................................. 333 – отклонения с оператором замещения ....................................................... 333 – отклонения с оператором расчленения .................................................... 334 – отклонения с несколькими операторами ................................................. 334 2.3. Риторические отклонения от словообразовательной нормы .................... 335 – отклонения с операторами прибавления.................................................. 338 – отклонения с операторами убавления ...................................................... 341 – отклонения с операторами переноса ........................................................ 343 – отклонения с оператором расчленения .................................................... 346 – отклонения с несколькими операторами ................................................. 346 2.4. Риторические отклонения от морфологической нормы ............................ 352 – отклонения от норм формообразования на основе оператора замещения………………………………………………………………… 353 – отклонения от норм употребления морфологических форм с оператором переноса по контрасту.......................................................... 355 2.5. Риторические отклонения от синтаксической нормы или ее нейтрального варианта ............................................................................ 361 – отклонения с операторами прибавления.................................................. 362 · отклонения с оператором повтора........................................................... 362 · отклонения с операторами контаминации.............................................. 369 – отклонения с операторами убавления ....................................................... 375 – отклонения с операторами переноса ......................................................... 381 – отклонения с оператором расчленения ..................................................... 387 – отклонения с несколькими операторами .................................................. 389 2.6. Риторические отклонения от норм правописания ..................................... 394 – отклонения с операторами прибавления................................................... 395 – отклонения с операторами убавления ....................................................... 395 – отклонения с операторами переноса ......................................................... 396 – отклонения с операторами замещения ...................................................... 396 – отклонения с операторами расчленения ................................................... 397 3. Риторические приемы, основанные на отклонении от речевой нормы или ее нейтрального варианта .................................................................................... 399 3.1. Риторические отклонения от «общего принципа нерегулярности текстовой структуры» ................................................................................... 400 – отклонения с операторами прибавления.................................................. 400 · отклонения с операторами совмещения на основе тождества или сходства (повтора; аттракции на основе омонимии и паронимии)…………………… ………………………………………….401 ·· отклонения с оператором аттракции на основе контраста ................. 415 ·· отклонения с оператором аттракции на основе соподчинения .......... 417 ·· отклонения с оператором аттракции на основе градуальности ......... 418 ·· отклонения с несколькими операторами.............................................. 419
5
3.2. Риторические отклонения от формально-логической нормы (законов формальной логики)....................................................................................... 420 – отклонения от закона тождества................................................................ 422 · отклонения с оператором замещения ...................................................422 · отклонения с операторами прибавления ..............................................423 – отклонения от закона противоречия и закона исключенного третьего с оператором аттракции как типом совмещения....................................... 425 – отклонения от закона достаточного основания......................................... 430 · отклонения с операторами совмещения .................................................430 · отклонения с оператором перестановки как типом переноса .................432 3.3. Риторические отклонения от информационно-речевой нормы............... 432 – отклонения с операторами прибавления................................................... 432 – отклонения с операторами убавления ....................................................... 434 – отклонения с оператором замещения ........................................................ 435 3.4. Риторические отклонения от стилистической и жанровой нормы........... 437 – отклонения с оператором контаминации как типом совмещения......... 437 – отклонения с оператором замещения ....................................................... 439 3.5. Риторические отклонения от ситуативно-речевой нормы ........................ 440 – отклонения с оператором замещения ........................................................ 440 – отклонения с операторами совмещения................................................... 442 3.6. Риторические отклонения от повествовательной нормы .......................... 443 – отклонения с операторами прибавления.................................................. 444 – отклонения с операторами убавления ...................................................... 447 – отклонения с операторами переноса ........................................................ 447 – отклонения с оператором замещения ....................................................... 448 3.7. Риторические отклонения от этико- и эстетико-речевой нормы.............. 454 – отклонения с операторами прибавления.................................................. 455 – отклонения с оператором замещения ....................................................... 456 3.8. Риторические отклонения от предметно-логической нормы, или виртуальные отклонения от онтологических норм.................................... 457 – отклонения с операторами прибавления.................................................. 462 – отклонения с операторами переноса ........................................................ 463 – отклонения с оператором замещения ....................................................... 472 4. Синкретизм отклонений от языковой и речевой нормы ................................. 476 5. О двойном отклонении, или отклонении от отклонения................................. 480 ВЫВОДЫ ................................................................................................................ 483 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 486 БИБЛИОГРАФИЯ ................................................................................................ 489 ПРИЛОЖЕНИЯ..................................................................................................... 541 Приложение 1. Принятые сокращения.................................................................. 541 Приложение 2. Предметный указатель ................................................................. 542
6
Когда чувство нормы воспитано у человека, тогда-то начинает он чувствовать всю прелесть обоснованных отступлений от нее. Л. В. Щерба
ВВЕДЕНИЕ Современный лингвист, занимающийся исследованием проблем элокуции как учения о словесном оформлении мысли, имеет в распоряжении богатое теоретическое наследие, в том числе многочисленные работы (от античности до наших дней), в которых описываются различные приемы речевого воздействия – прежде всего фигуры речи и тропы. Однако именно разработанность элокуции, породившая огромное количество терминов, как отмечает Г. Г. Хазагеров, служит препятствием к ее освоению [Хазагеров 2002: 14]. Не является упорядоченным терминологический аппарат теории фигур, поскольку одно и то же явление по-разному терминируется в различных концепциях, в результате чего возникает не только нежелательная полисемия терминов, но и «размываются» границы между многими понятиями1. Существующие классификации фигур речи, будучи прогрессивными для своего времени, тем не менее не отражают все многообразие эмпирически наблюдаемых в литературной речи приемов. Отсюда возникает необходимость построения такой классификации приемов, которая была бы адекватна современной языковой / речевой действительности и теории языка. Сказанное обусловливает актуальность предпринятого нами исследования, которое посвящено обоснованию системного характера риторических приемов (далее – РП). Нельзя сказать, что проблема системности интересующих нас явлений не находилась в поле зрения ученых. Попытки систематизации тропов, фигур продолжаются, начиная со времен античности: Аристотель, М. Ф. Квинтилиан, Г. Хировоск, Псевдо-Горгий, С. Яворской, М. В. Ломоносов, А. Серебрянников, И. С. Рижский, Н. Ф. Кошанский, К. П. Зеленецкий, М. Л. Гаспаров, В. И. Корольков, Ю. М. Скребнев, А. Барон, С.-Ш. Дюмарсэ, Н. Бозе, П. Фонтанье, Г. Плетт, Ж. Женетт и другие. Эта проблема и сейчас волнует 1
Применительно к конкретным стилистическим фигурам см. об этом, напр.: [Пекарская 2000в: 67; Копнина 2000]. 7
всех, кто предпринимает опыт классификации стилистических фигур, тропов и в целом выразительных средств языка / речи. Здесь можно назвать Т. Г. Хазагерова и Л. С. Ширину, Г. Г. Хазагерова, С. Е. Никитину и Н. В. Васильеву, В. П. Москвина, ученых Льежской школы (Ж. Дюбуа, Ф. Эделина, Ж. Клинкенберга и др.). Особого внимания заслуживают исследования, описывающие отдельные микросистемы фигур, построенных на основе общего принципа, – прежде всего, работы А. П. Сковородникова, Э. М. Береговской, И. В. Пекарской, А. А. Кузнецовой, которые пишут о наличии лакун в теории элокуции: о неразработанности многих важнейших понятий, о необходимости системного подхода2 к их изучению. Конечно, в рамках одного исследования восполнить все пробелы невозможно. Наша работа направлена на то, чтобы очертить общие рамки совокупности РП как целостной системы современного русского литературного языка (под языком в данном случае понимается единство системы и ее функционирования). Наряду с обобщением известных фактов по теории нормы, теории элокуции, в работе представлены собственные разыскания автора, связанные с попыткой осмысления принципов и постулатов речевого поведения, описанием моделей РП и нейтрализации как одного из проявлений динамичности системы приемов. Новыми являются структурные классификации ряда подсистем РП, некоторые наблюдения над особенностями их взаимодействия и функционирования, а также идеи, связанные с формированием критериев, позволяющих отграничивать РП от речевой тактики и речевого жанра. Новизна исследования также видится в том, что оно представляет собой опыт системного осмысления накопленного со времен античности материала с позиций современной теории языка. Методологической базой исследования выступает системный подход как вид общенаучной методологии, в основе которого лежит философский принцип системности, понимаемый как «универсальное положение о том, что все предметы и явления мира – это системы различных типов и видов целостности и сложности…» [Микешина 2005: 381]. Поскольку системность – это объективное свойство материи, свойство, носящее всеобщий характер, а потому присущее 2
Комплексное описание фигур, основанных на симметрии и асимметрии, представлено в монографии «Синтаксические фигуры как система» [Синт. фигуры… 2007]. 8
и языку, и речи [Сидоров 1987б: 3], в основу работы была положена гипотеза о том, что РП (включая тропы и фигуры речи) также представляют собой определенного рода систему. Поэтому в процессе их изучения мы опирались как на постулаты общей теории систем, так и на основные положения русской классической и зарубежной лингвистики: о языке как особой функциональной системе семиотического характера, о разграничении языка и речи (В. фон Гумбольдт, А. А. Потебня, Ф. де Соссюр, Л. В. Щерба и др.), о динамическом характере нормы и множественности норм (Н. Д. Арутюнова, Л. К. Граудина, Я. Мукаржовский, Е. В. Ширяев и др.). Теоретически значимыми для исследования явились также работы в области истории риторики (М. Л. Гаспаров, В. П. Вомперский, Н. М. Щаренская и др.), неориторики (Ж. Дюбуа, Х. Перельман и др.), лингвистической прагматики (Н. Д. Арутюнова, Д. Гордон и Дж. Лакофф, Е. В. Падучева и др.), коммуникативной лингвистики (М. М. Бахтин, В. Г. Гак, Г. А. Золотова и др.) и психолингвистики (А. А. Леонтьев, Р. М. Фрумкина и др.). Цель исследования – представить комплексное описание системы риторических приемов современного русского литературного языка. Названная цель обусловила постановку следующих задач: 1) рассмотреть проблему системного осмысления понятия нормы в современной лингвистике; 2) выявить и охарактеризовать системные свойства риторических приемов; 3) определить отношение риторических приемов к системности языка и системности речи; 4) охарактеризовать традиционные и нетрадиционные подходы к классификации фигур и – шире – риторических приемов; 5) предложить общую классификацию риторических приемов на основе принципов их построения. Материалом исследования послужили фрагменты речи, которые могут рассматриваться как воплощения моделей РП и которые были взяты нами в контексте, необходимом для определения их функции. Речевой материал извлекался из текстов разной стилевой принадлежности методом случайной выборки. Общий объем картотеки речевых фактов составил свыше трех тысяч единиц. Это преимущественно те речевые факты, которые не рассматривались ис9
следователями в рамках тропов и фигур речи (в их узком понимании как синтагматически образуемых средств выразительности речи). В процессе исследования использовались следующие основные методы: описательно-аналитический метод, предполагающий анализ полученных результатов и их описание в рамках соответствующей теоретической концепции; моделирование как один из методов системного анализа; метод стилистического эксперимента; методы композиционного, контекстологического, дистрибутивного и компонентного анализа текста, которые иногда именуют аспектами3. Все эти методы применялись в рамках общенаучного системного подхода, согласно которому описание элемента объекта должно осуществляться с учетом места объекта в системе в целом [Микешина 2005: 384]. Избрание традиционной квантитативной методики обусловлено поставленными целями и задачами, объектом исследования и состоянием его изученности. В результате исследования описаны системные свойства РП (мотивированность, или прагматическая обоснованность, отклонения от нормы; способность к нейтрализации – «снятию» принципа отклонения; моделируемость как воспроизводимость по образцу; функциональная общность; способность к взаимодействию между собой) и предложена их общая классификация на основе типов отклонений (частных реализаций общего принципа отклонения) и операторов (операциональных принципов) отклонений, перечень которых вполне обозрим, что придает этой классификации «гибкость» (позволяет определять статус различных, в том числе нетерминированных, приемов). Проведенное исследование помогает интерпретировать не терминированные ранее речевые явления в рамках предложенной концепции РП, а также в определенной степени позволяет уточнить и упорядочить терминологию в этой области4. Благодаря этому иссле3
О композиционном, контекстологическом, дистрибутивном и компонентном анализах текстов как общефилологических методах исследования см. в [Болотнова 2007: 447-458]. 4 «…Если какая-либо концептуальная система оказывается способной объяснить эмпирически наблюдаемые факты, это значит, что она содержит в себе информацию, адекватную объекту и отражающую то, что реально есть в структуре данного объекта и организуемой ею системе…» [Общее языкознание 1970: 19]. 10
дование приобретает практическую значимость в педагогической деятельности, так как системное осмысление теоретического материала – залог его успешного усвоения. Следовательно, результаты исследования могут использоваться в процессе преподавания коммуникативных дисциплин («Риторика», «Стилистика», «Культура речи», «Русский язык и культура речи»). Думаем, что результаты исследования окажутся полезными как при совершенствовании имеющихся лингвистических словарей и справочников, так и при написании новых. Значимость работы также видим в том, что описание прагматически мотивированных отклонений от нормы (или ее нейтрального варианта) может способствовать решению такой задачи нормализаторской деятельности, как выработка конкретных и обоснованных рекомендаций по функционально оправданному использованию РП. Полагаем, что наше исследование позволяет углубить знания в области элокуции и теории речевого воздействия, поскольку представляет собой первое системное описание РП на основе широкого (философского) осмысления нормы. Такое описание, осуществленное с учетом принципов продуцирования РП, позволяет интерпретировать все многообразие речевых фактов, представленных в современной литературной речи. В этом заключается теоретическая значимость работы. Системный подход нашел отражение в общей композиции исследования. Предлагаемая вниманию читателя работа состоит из двух частей, библиографии и приложения. Первая часть посвящена проблеме системного осмысления понятия нормы, характеристике системных свойств приемов и обоснованию концепции РП, которая позволяет, как нам кажется, с одной стороны, объяснять и квалифицировать ранее не терминированные приемы, с другой стороны – сохранять то положительное, что накоплено в разных направлениях языкознания, а не отбрасывать их в качестве архаичного. Во второй части работы рассматриваются традиционные и нетрадиционные подходы к проблеме классификации фигур речи и – шире – РП; дается аналитический обзор современных классификаций приемов; предложена общая классификация РП, разработанная на основе широкого (философского) понимания нормы как среднестатистических представлений человека о закономерном, о всевозможных видах и формах порядка. 11
Перечень научных источников по проблемам нормы, теории фигур и тропов может составить не одну тысячу единиц. Поэтому во избежание перегруженности библиографического аппарата в конце книги указываются только те публикации, на которые имеются ссылки в тексте данной работы. В Приложении даны список сокращений и предметный указатель. Проведенное исследование представляет собой один из возможных путей разработки системности приемов речевого воздействия. Будем признательны за все замечания и предложения, направленные на совершенствование данной концепции РП. В заключение выражаем огромную благодарность Александру Петровичу Сковородникову – моему Учителю, научному консультанту и редактору, многоуважаемым рецензентам Эде Моисеевне Береговской и Ольге Викторовне Фельде, а также Аде Александровне Бернацкой за прочтение рукописи монографии и критические замечания, которые были учтены при ее доработке.
12
Часть I ПОНЯТИЕ РИТОРИЧЕСКОГО ПРИЕМА В ЕГО ОТНОШЕНИИ К СИСТЕМЕ ЯЗЫКА И РЕЧИ Ученые в области общей теории систем считают, что при системном подходе «исследование начинается не с элемента, а с систем и системных целостностей» [Исаев 1972: 259]. Поэтому анализ познаваемого объекта как системы включает решение по крайней мере следующих задач: определение разновидности систем, к которой принадлежит объект данной предметной области; фиксация системообразующего свойства, удовлетворяющего целям исследования или существенного с точки зрения функционирования изучаемого объекта; определение системообразующих компонентов системы, иерархических уровней и подсистем данной системы, или, другими словами, интерпретация системообразующего свойства на множестве отношений, релевантных этому свойству, т.е. фиксация структуры системы; фиксация полюсов – входов и выходов системы, что позволяет изучать как внутреннее, так и внешнее функционирование системы (ее поведение в окружающей среде); установление условий, границ существования системы5. Решению первых двух задач, а именно обоснованию системообразующих свойств РП (мотивированности отклонения, моделируемости, функциональной целостности, способности к нейтрализации и конвергенции), определению статуса данной системы по отношению к системе языка и системе речи, посвящена эта часть работы. Осмысление системообразующих свойств РП невозможно без обращения к понятию нормы и анализа его трактовки в современном языкознании: «…когда мы говорим об ошибках или приемах, требуется углубленная характеристика нормы» [Мурзин 1989: 5]. Отмечают, что норма как категория лингвистики относится к числу достаточно широко и глубоко изученных феноменов и что литература по проблемам нормативности языка, его кодификации весьма обширна [Чайковский 1987]. В результате «число концепций нормы, вероятно, приближается к числу языковедов, специально за5
О необходимости решения этих задач при системном подходе см.: [Сумарокова 1978: 189-190; Тюхтин 1978: 42-43; Цыгичко, Клоков 1986: 124 и др.]. 13
нимавшихся этим вопросом» [Скребнев 1984: 162]6. Поэтому понятие нормы в лингвистике употребляется в разных значениях, и возникает проблема его системного осмысления.
Глава 1 Проблема системного осмысления нормы в современной лингвистике 1. О философском понимании нормы в современном языкознании Норма – это понятие, которое на первый взгляд кажется ясным. Но только на первый взгляд. Дело в том, что «концепт нормы применим практически ко всем сферам жизни – явлениям природы, естественным родам, выведенным культурам, артефактам, организмам и механизмам, погоде, социальным явлениям, поведению людей и их действиям (деонтические нормы), экономике, искусству, науке, языку и мышлению, профессиональным действиям, играм, спорту и т.п.» [Арутюнова 1999: 75]. Термином «норма» обозначают «все виды и формы порядка, имея в виду и естественные нормы природы, и созданные человеком правила и законы» [там же]. Тем самым норма есть «…типичный образец "размытого" концепта; в качестве нормы может выступать, к примеру, закон (в отличие от беззакония), привычное (в отличие от непривычного), правильное (в отличие от неправильного) и т.д.» [Плотникова 2005: 265]. Доказательством того, что понятие нормы используется применительно к разным сферам жизни, могут служить высказывания и других исследователей. Так, В. А. Маслова определяет норму как «предписание к поведению человека в социальной и природной среде» и пишет о множественности норм, выделяя нормы нравственные, эстетические, профессиональные, ритуальные и т.д. [Маслова 1992: 360]. Понимания нормы как порядка всех видов и форм придержи6
Обзор литературы по проблемам определения языковой нормы, истории ее становления см. в работах: [Петрова 2004а; Семенюк 1970: 549-565; Скворцов 1970: 40-55; Шварцкопф 1970]. 14
ваются А. И. Лызлов [Лызлов 2005: 327] и Я. Мукаржовский, который говорит о возможности выделения норм этических, религиозных, социальных, политических и некоторых других [Мукаржовский 1994: 167]. В. И. Болотов отмечает, что «на употребление языка накладывают ограничения факторы психического, социального, физиологического и т.д. порядков, которые обладают своими собственными нормами» [Болотов 1985: 75]. Т. В. Матвеева пишет: «Нормы различного рода (параметрические, этические, эстетические и др.) связаны с традиционным проявлением обычных функций того или иного явления действительности , а вместе взятые, отражают опыт социального бытия людей» [Матвеева 1991: 80]. Подобные утверждения о многообразии типов норм встречаем и в работе А. А. Ивина «Логика норм». Ее автор считает, что область значений слова «норма» является разнородной, и выделяет три типа норм: правила, команды и собственно нормы (моральные, правовые и др.) [Ивин 1973: 21]. Высказывание о том, что норма представляет собой «более или менее растяжимое понятие» [Арутюнова 1999: 65], характерно для современного уровня развития науки, в том числе лингвистики. Аргументом может послужить и тот факт, что, помимо норм, выделяемых в составе собственно языковой нормы (фонетических, лексических, словообразовательных, морфологических и синтаксических), исследователи пишут о существовании следующих норм (приведем их в алфавитном порядке вне какой-либо систематизации): – антропонимическая норма [Алейникова 1991: 143]; – арготическая, диалектная, просторечная [Захарова 1999: 76]; – асистемная норма [Мыркин 1998: 29]; – внутренняя норма функциональных стилей [Зиновьева 1988: 64]; – внутренняя норма сообщения [Долинин 1985: 52]; – жанрово-ситуативная, или жанровая [Захарова 1999: 79]; – индивидуальная норма [Михель 1980: 290; Долинин 1985: 52], или индивидуальная языковая норма [Архипов 1990: 3]; – интерпретационная норма [Голев, Ким 2007: 87]; – конвенциональная норма [Сухих 1987: 96]; – коммуникативная, или коммуникативно-прагматическая [Анисимова 1988: 64; Сковородников 1998: 10; Таюпова 2004: 50]; – коммуникативно-этическая [Захарова 2001: 167]; – контекстуальная [Гукасова 2000: 41; Мустайоки 1988: 176]; 15
– норма художественной речи [Винокур 1974]; – нормы ведения диалога [Булыгина, Шмелев 1990: 103]; – нормы искусной речи [Москвин 2006а: 131]; – нормы кода, нормы интеракции [Макаров 1990: 80]; – нормы реагирования на этикетные фразы [Голев, Ким 2007: 87]; – повествовательная норма [Винокур 1974: 268]; – прескриптивная, ретроспективная и дескриптивная нормы [Мыркин 1998: 29]; – просторечная [Захарова 1999: 76]; – психолингвистическая норма текстовости [Седов 2001: 122]; – риторическая норма общения [Захарова 2001: 163], – семантико-прагматические нормы [Таюпова 2004: 51]; – ситуативная [Бухаров 1984: 51; Едличка 1988; Hartung 1977]; – смысловые нормы [Макаров 1990: 80]; – социальные нормы [Гавранек 1967: 339], социальные нормы владения языком [Лазуткина 1996: 100]; – среднелитературная [Захарова 1999: 76]; – стилевая, или стилистическая [Горшков 2001: 41]; – субъязыковая норма [Скребнев 1984: 161]; – текстовая [Шварцкопф 1998: 221]; – текстообразующая [Бухаров 1984: 51]; – терминологическая [Кириллова 2001: 69]; – транслингвальная [Каракуц-Бородина]; – функционально-стилистическая [Кожина 1993: 94; СЭС 2003: 433-434], или функциональная; – экспрессивно-стилистическая [СЭС 2003: 433]; – элитарная [Захарова 1999: 76]; – этикетная [Ипполитова и др. 2004: 129]; – этическая [Ширяев 1998: 15-16; Ипполитова и др. 2004: 155] и этико-речевая [КРР 2003: 10] и другие типы норм. Представленное выше многообразие типов норм, выделяемых в современной лингвистике, нуждается в системном осмыслении, что выходит за рамки данной работы. Для нас важно то, что нормы языка и нормы речи носят конвенциональный характер и являются разновидностью социальных
16
норм7, которые определяются как «…средства ориентации социального поведения каждой отдельной личности или общности, контроля за поведением» [Сухих 1987: 96]. В тезисах Пражского лингвистического кружка читаем: «Литературный язык характеризуется более широким [по сравнению с народным языком. – Г. К.] функциональным использованием лексических и грамматических элементов… и богатой шкалой социально-языковых норм» [ПЛК 1967: 27]. Л. П. Рыжова со ссылкой на А. А. Леонтьева пишет, что система языка в социально-психологическом плане является «…частным случаем социальной нормы, обеспечивающей единообразие социального поведения членов группы» [Рыжова 1987: 54]. Социальными нормами являются речевые нормы, так как речь – «…явление специфически человеческое, а значит социальное, поскольку она живет только в коллективе людей, в обществе и представляет собой, как и сам человек, продукт общественных отношений. Человек может обратиться с речью и к самому себе, но лишь постольку, поскольку он обращается с ней также и к другим членам языкового коллектива» [Лыков 1977: 72]. Об отнесении норм речевых высказываний, как заметила Е. Е. Анисимова [Анисимова 1988: 65], к разряду социальных норм, еще в 20-е годы писал В. Н. Волошинов в книге «Марксизм и философия языка». К социальным схемам речевых действий относит нормы речевого общения и С. А. Сухих [Сухих 1987: 97]. Норма в ее широком понимании охватывает все возможные виды норм, в том числе перечисленные выше. Она может быть определена как «…понятие, обозначающее границы, в которых вещи, явления, природные и общественные системы, виды человеческой деятельности и общения сохраняют свои качества, функции, формы воспроизводства» [Кемеров 1988: 579]. Такое осмысление нормы является философско-онтологическим. Можно согласиться с А. П. Сковородниковым, который рассматривает онтологию языка и онтологию речи как частные онтологии и определяет последние (наряду с другими частными онтологиями) как области (фрагменты) концептуальной картины мира [Сковородников 2005в: 164]. Соответственно, нормы языка, речи могут быть определены как раз7
О правомерности рассмотрения языковой нормы как разновидности норм: «…языковые нормы должны оцениваться как одна из форм нормативности обычаев, включаясь тем самым в категорию различных общественных норм» [Семенюк 1970: 564]. 17
новидности онтологической нормы (общей концептуальной модели мира) конвенционального типа. Остановимся далее на некоторых теоретических проблемах, касающихся определения и соотношения тех типов норм, на основе отклонения от которых строятся рассматриваемые нами далее РП. Начнем с языковой нормы как центрального в лингвистике понятия.
2. Широкое и узкое понимание языковой нормы Языковая норма определяется как «…совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой системы, отобранных и закрепленных в процессе общественной коммуникации» [Семенюк 1998: 337]8. Норма, представляющая собой «…совокупность стабильных и унифицированных языковых средств и правил их употребления, фиксируемых и культивируемых обществом, является специфич. признаком литературного языка нац. периода. В более широкой трактовке Н. трактуется как неотъемлемый атрибут языка на всех этапах его развития» [там же]. Другими словами, понятия нормы языковой и нормы литературной разграничиваются. В. А. Гречко пишет: «Когда говорят о современном литературном языке, то подчеркивают, что это н о р м и р о в а н н ы й я з ы к. Однако в понимании самой нормы среди языковедов нет единства. В последнее время наметилось разграничение понятий, относящихся к норме: выделяют я з ы к о в у ю н о р м у и л и т е р а т у р н у ю н о р м у национального языка» [Гречко 2003: 295]; «языковая норма предшествует национальной литературной норме; точнее языковая норма трансформируется в высшую форму – национальную литературную норму, будучи о с о з н а н н о й в пределах национального языка, н а у ч н о-п о з н а в а е м о й и к о д и ф и ц и р о в а н н о й» [там же: 296]. Но иногда в лингвистике понятия языковой и литературной нормы употребляются как синонимичные (см., напр., [Введенская и др. 2000: 71; Матвеева 2003: 173]). Для характеристики литературного языка национального периода используют также термин литературно-языковая норма [Вендина 2001: 59]. Этот термин предлагают употреблять и в другом – 8
Такое же определение, но уже речевой норме, дается в [Гойхман, Надеина 2001: 33]. 18
более широком – значении: как категорию, обслуживающую «все пространство речевой культуры, а не только ту его часть, которая прямо или опосредованно коррелирует с уровнями, или ярусами, языковой структуры…» [Сковородников 1998: 10]. Для характеристики нелитературного языка (то есть применительно к говорам, жаргонам и т.д.) используют термин «нормы-традиции» [Химик 2003: 134] или просто норма [Крысин 1968: 17; Лыков 1977: 73; Ризель 1973: 76]. К проблеме определения нормы в узком понимании существуют, как отмечает Р. Р. Чайковский, два подхода. В соответствии с первым подходом норма – некий инвентарь языковых средств9. Сторонники же другого взгляда на норму рассматривают этот феномен как совокупность не самих языковых средств, а директив их реализации в речи, набор устройств, фильтров, так или иначе ограничивающих возможности, предоставляемые языковой системой, и определяющих качество порождаемых высказываний. По мнению Р. Р. Чайковского, оптимальное решение следует искать в слиянии этих двух точек зрения на языковую норму, которое представлено В. Г. Костомаровым, определившим норму как «общеупотребительные средства языка и правила их применения» [Чайковский 1987: 100-101]. Другой вопрос – считать ли норму свойством языка, ее особым компонентом или относить ее к условиям использования языка? П. М. Алексеев полагает, что «если норма – это свод правил реализации системы языка, система таких правил, то она не может быть полностью изолированной от условий существования языка; следовательно, она связана с внешней обстановкой. Но поскольку норма представляет собой лингвистические правила употребления лингвистического материала, она не может быть противопоставлена и язы9
Определение нормы как совокупности языковых средств считает недостаточным Н. Н. Семенюк: «Исходя из представленного у Э. Косериу понимания языковой нормы, следует определить ее как совокупность наиболее устойчивых, традиционных реализаций элементов языковой структуры, отобранных и закрепленных общественной языковой практикой». «Такое определение, – читаем далее, – нуждается, однако, в уточнении, поскольку оно требует решения целого ряда вопросов. К их числу относится прежде всего вопрос о соотношении понятия нормы с понятиями языковой структуры и узуса» [Семенюк 1970: 555]. 19
ку». По его мнению, «норма должна входить в состав языка, будучи буферной зоной для связи языка с неязыковыми ситуациями», она «служит фильтром, распределяющим возможности системы (обеспечивая при этом некоторый выбор в ограниченных пределах) по конкретным речевым актам в зависимости от конкретных (типовых) ситуаций» [Алексеев 1977: 46]. Она «фильтрует также накопленные в речевых актах (и текстах) и обобщенные узусом изменения, прежде чем эти изменения попадут в систему». В результате исследователь приходит к выводу о том, что «систему и норму объединяет их принадлежность к языку (langue), узус и собственно речь – их принадлежность к речи (parole), норму и узус – их "нормальность"» [там же: 47]. Нет единообразия среди лингвистов и в выделении компонентов языковой (литературной) нормы. Большинство исследователей в ее составе рассматривают нормы фонетические (орфоэпические, интонационные, акцентологические), лексические, фразеологические, словообразовательные и грамматические10 (морфологические, синтаксические). К этому перечню с учетом способов письменного оформления текста добавляют нормы правописные [СЭС 2003: 434] – орфографические и пунктуационные. Как известно, многие исследователи выделяют также текстовые нормы. Решение вопроса о том, являются ли текстовые нормы нормами языка, зависит от того, как мы определяем текст по отношению к языку и речи. Если текст признавать единицей высшего уровня системы языка, то текстовые нормы логично было бы рассматривать как разновидность языковой нормы. Если же высшей единицей языковой системы считать предложение, то текстовая норма имеет отношение к речи, а не к языку. Сложность в трактовке текстовой нормы связана с тем, что термин «текст» не получил пока однозначного определения11. Поэтому исследователи 10
Существует и другая точка зрения, согласно которой к грамматике относят не только морфологию и синтаксис, но и лексикологию [Даниленко 2005]. Соответственно, пересматриваются и отношения между нормами. 11 О разном осмыслении понятия «текст» см., напр.: [Бисималиева 1999: 78-80; КРР 2003: 706; Лотман 1997: 209-211; Матвеева 1991: 24-34; Львов 2000: 161-170]. В большинстве современных работ текст рассматривается как явление речевое (см., напр.: [Болотнова 1999: 10, 29-30; Корчагина 1988: 158; Кронгауз 2001: 256; Сидоров 1987б: 43]). Есть точка зрения, согласно которой текст и дискурс могут быть соотнесены как языковая единица с 20
пишут, что «текст – важнейшее лингвистическое понятие, в котором сходятся основные параметры языка и речи» [КРР 2003: 708], или что тексту (как и предложению) свойственна «двоякая (языковоречевая) природа» [Вейхман 1988: 68]. Широкое и узкое понимание нормы выделяют и в другом аспекте: «В свете коммуникативно-деятельностной концепции языка языковая норма выступает как коммуникативно-языковая норма. Широкое понимание языковой нормы, объединяющее системноструктурный и функциональный аспекты данного понятия, явилось логическим продолжением на современном этапе взглядов пражских лингвистов на языковую норму как на коммуникативный феномен, данность функционирующего языка» [Анисимова 1988: 64]. Поэтому к коммуникативно-языковой норме относят не только нормы, регламентирующие языковые средства и имеющие всеобщий характер (фонетические, лексические, морфологические и т.д.), но и «ситуативно обусловленные нормы» («нормы речевых высказываний (текстов)», «коммуникативно-прагматические нормы») [там же: 64-65]. Определение языковой нормы, в котором отражено ее отношение к норме онтологической, на наш взгляд, дает Ю. М. Скребнев. Говоря о необходимости дальнейших поисков рационального содержания термина «норма», он пишет, что в отношении к системе «…понятие "норма", вероятно, следовало бы определить как коллективно принятое представление о параметрах эталонной, образцовой системы субъязыка. Если, таким образом, система есть совокупность знаков и их отношений, то норма относится к области отражения языковой системы сознанием» [Скребнев 1975: 67]. Признавая нормативность необходимым условием функционирования языка во всех его разновидностях, он пишет: «Норма есть представление об эталонной, социально образцовой совокупности манифестантов системы – например, представление о речевых произведениях нескольких лиц, авторитетных в языковом отношении. Эти речевые произведения естественно различаются между собой по целому ряду характеристик. Именно поэтому идея нормы необходимо предполагает единицей речи [Сыров 2007: 167; Радбиль 2006: 92]. Очевидно, текст обращен и к речи, и к языку, поскольку организуется при помощи единиц «низших» уровней по определенным закономерностям, которые описываются в работах многих современных исследователей (как и предложение, которое обращено к языку и речи; см. [Звегинцев 1976: 156-177]). 21
некоторый диапазон варьирования. Нормой можно считать общее в индивидуальных представлениях носителей языка о диапазоне допустимого варьирования формы – диапазоне, в пределах которого коллективное языковое сознание констатирует соответствие языковой единицы эталону, соответствие ее системе данного субъязыка» (курсив наш. – Г. К.) [там же: 69]. Таким образом, языковая норма – разновидность конвенциональной онтологической нормы, общепринятое представление носителей языка о его системе и структуре, отраженное в узусе и сформулированное в виде правил12 (кодифицированное). В этом определении языковой нормы отражены, на наш взгляд, четыре важных аспекта: 1) онтологический, социальный статус языковой нормы; 2) «норма – это идеализированное воплощение всеобщего в качестве обязательного…» [Лыков 1977: 72]; 3) норма «зиждется на узусе» [там же: 73]; 4) разграничение нормы и кодификации. И все же, если понимание языковой (литературной) нормы «более или менее единообразно» [Кожина 1993: 92], то этого нельзя сказать по отношению к норме речевой, дефиниции которой исследователи, как правило, не приводят (см., напр.: [Петрова 2004а; Болотов 1985]).
3. Понятие речевой нормы и дискуссионные вопросы его трактовки Если мы признаем дихотомию язык-речь, то необходимо разграничивать нормы языка (языковые нормы) и нормы речи (речевые нормы), о чем пишут многие исследователи ([Плещенко и др. 2001: 89; Петрова 2004а: 20; Таюпова 2004: 51; Медникова 1979: 32] и др.). При осмыслении понятия речевой нормы одни языковеды исходят из понимания речи как текста – законченного речевого произведения, связного целого, реализующего авторский замысел (отсюда дублетное употребление терминов «речевая норма» и «текстовая норма»),
12
«Правила языка – совокупность потенциальных отношений между элементами (единицами) языка, которые можно обнаружить в речевой цепи» [Солнцев 1977: 66]. 22
другие – речи как вербального поведения13. В первом случае речь анализируется преимущественно с функционально-стилистической точки зрения, во втором – с лингвопрагматической. Рассмотрим эти два подхода.
3.1. Нормы речи как нормы текста М. Н. Кожина пишет: «Речь подчиняется общепризнанным, исторически сложившимся и наиболее целесообразным в той или иной сфере общения закономерностям функционирования языковых средств, отчего и складываются своеобразные, динамичные по природе организации, фиксирующиеся в текстах, в речевых высказываниях» [Кожина 1972: 55]. Тем самым понятие речевой нормы тесно связано с понятием функционального стиля / функциональной разновидности. При функционально-стилистическом подходе «…имеются в виду нормы речи, а не нормы общелитературного языка» [Горбачевич 1978: 36]. Однако этот факт не является серьезным основанием для отождествления понятий «речевая норма» и «функционально-стилевая норма», как это делают исследователи, которые пишут: «Если языковые нормы едины для литературного языка в целом, они объединяют все нормативные единицы независимо от специфики их функционирования, то речевые нормы устанавливают закономерности употребления языковых средств в том или ином функциональном стиле и его разновидностях. Это – функциональностилевые нормы, их можно определить как обязательные в данное время закономерности отбора и организации языковых средств в зависимости от ситуации, целей и задач общения, от характера высказывания» [Плещенко и др. 2001: 89]. О специфике текстовой нормы применительно к текстам разных функциональных разновидностей пишет Е. Е. Анисимова. Не рассматривая вопрос об объеме и содержании понятия «текстовая норма», исследователь отмечает исторически изменчивый и императивный характер текстовых норм, что проявляется в необходимости 13
«…Норма является обязательным компонентом и ингредиентом как речевого поведения и речевого произведения, так и любой языковой единицы в материальном проявлении, т.е. в реализации» (курсив наш. – Г. К.) [Каспранский 1990: 11-12]. 23
их соблюдения при построении речевого высказывания (текста) в типовой ситуации коммуникации. Причем наименее императивными и чаще всего неосознаваемыми являются, по ее наблюдениям, текстовые нормы обиходно-разговорной речи. Наиболее императивными в целом исследователь считает текстовые нормы административно-деловой речи (более подробно см. [Анисимова 1989: 5-7]). При описании функционально-стилевых норм сложным является вопрос о нормах художественной речи. И. Р. Гальперин писал, что индивидуально-художественный стиль «…не может, по самому содержанию понятия, быть системой, нормализованной общественным коллективом. Система индивидуально-художественного стиля характеризуется своим индивидуальным своеобразием отбора, организации и творческой обработки языковых средств» [Гальперин 1954: 80]. Однако в последнее время факт нормативности художественной речи можно считать признанным. При описании норм художественных текстов оперируют чаще понятием текстовой нормы, нежели нормы художественной речи. Е. Е. Анисимова полагает, что в сфере художественного творчества степень императивности текстовой нормы определяется степенью допустимой формализации художественного жанра [Анисимова 1989: 6]. Важное наблюдение над спецификой текстовой нормы находим в статье Т. Б. Радбиль «Норма и аномалия в парадигме "реальность – текст"». (Сразу оговоримся, что понятие текстовой нормы этот исследователь не употребляет, хотя в его статье речь идет, по сути дела, об этом, но применительно к художественному тексту: ставится вопрос о том, что считать «нормой для художественного текста именно как текста» [Радбиль 2005: 57].) По мнению исследователя, текстовые аномалии как нарушения норм художественного текста «…возможно определить в тех случаях, когда в произведении нарушаются некие общие принципы текстопорождения. Это, например, аномальная вербализация текстовых категорий (связность, цельность, единство и пр.), это аномальный ввод интертекста, это нарушения в области субъектной модальности текста (аномальный дейксис, аномалии хронотопа) и пр.» [там же: 58]. Следовательно, осмысление текстовой нормы предполагает рассмотрение «принципов текстопорождения», в том числе текстовых категорий. Т. В. Матвеева в диссертационной работе «Функциональные стили в аспекте текстовых категорий» пишет: «Типичные реализации текстовых категорий в рамках определенного функционального сти24
ля, будучи выявлены на достаточном количестве образцовых текстов этого стиля, суть текстовые нормы последнего» [Матвеева 1991: 16]; «Типовая реализация текстовой категории может быть признана частной функционально-стилевой нормой текста, рекомендательной в пределах одного стиля и диспозитивной по отношению к аналогичным проявлениям в других стилях» [там же: 383] (курсив в цитатах наш – Г. К.). Т. В. Матвеева полагает, что «применительно к текстовой категории имеет смысл говорить о списках составляющих ее типов языковых единиц, а не конкретных единиц , помимо списка в представление нормы должны включаться синтагматика типовых единиц и размещение в тексте, т.е. композиционные аспекты реализации текстовой категории» [там же]. Таким образом, к текстовым нормам исследователь относит типовые (в том числе композиционные) реализации текстовых категорий. При этом исследователь отмечает, что «…каждый функциональный стиль характеризуется некоторыми типовыми проявлениями в области текстовых категорий, что позволяет ставить вопрос о нормах текста» [там же: 382]. Позже Т. В. Матвеева напишет: «…повторяющиеся свойства определенного класса текстов (текстотипа) являются его объективными признаками и откладываются в сознании личности как текстовая компетенция и умозрительная модель этого текстотипа. Если эта информация извлекается из авторитетных текстов, характеризующихся эффективностью и высоким речевым качеством, т. е. из образцовых текстов, то типологические свойства текстотипа совпадают с его текстовыми нормами» [Матвеева 2000: 122-123]. Т. Б. Радбиль отмечает, что нормой текста (художественного) можно считать законы жанра, однако существуют удачные литературные произведения, написанные с нарушением жанрового канона. Кроме того, для современной литературы, по его мнению, характерна жанровая неопределенность, и поэтому нарушение жанровых канонов «…должно быть признано, скорее, нормой, нежели аномалией. Аномальным в прагматическом смысле будет слепое следование "нормам жанра" – как провоцирующее неинформативность и тавтологичность и, как следствие, возможный провал в области художественного воздействия на читателя» [Радбиль 2005: 57]. Позволим себе частично не согласиться с этим утверждением. Конечно, отступление от жанровых канонов нельзя считать языковой аномалией при условии узкого понимания термина «аномалия» (отклонения от структурно-языковой нормы, имеющие соотносительные нормативные 25
варианты), и языковая аномалия в таком осмыслении не обязательно ведет к аномалии собственно текстовой (принадлежащей сфере художественного текста). Однако сам факт отступления, и тем более прагматически оправданный, является приемом, который свидетельствует о существовании самой жанровой нормы, которая, очевидно, не сводится к особой прикрепленности языковых средств. О специфике жанров в художественной прозаической литературе М. Н. Кожина пишет: «Говорить о какой-либо прикрепленности здесь языковых средств к отдельным жанрам и особой речевой системности в каждом из них, по всей вероятности, не приходится» [Кожина 1972: 92]. Н. К. Гарбовский полагает, что жанровые нормы (нормы речевого поведения в определенных повторяющихся, или типичных, ситуациях общения) определяются прежде всего традицией. Поэтому их можно определить как «традиционные правила речевого реагирования на ту или иную социально осознанную ситуацию» [Гарбовский 1987: 15-16]. Понятие текстовой (жанровой) нормы использует Б. С. Шварцкопф. О текстовых нормах деловой речи он пишет: «…текстовые нормы регулируют закономерности реализации семантико-информационной структуры и правил линейного развертывания схемы жанра документа как особого семиотического феномена, т.е. определяют семантическую и формальную организацию текста документа и его частей». И далее: «Основные различия между текстовыми и языковыми нормами сводятся к следующему: для текстовых норм важны требования к построению определенных типов и частей текста, для языковых норм характерно ограничение возможности употребления языковых единиц в контексте документа. Автономность этих двух типов норм доказывается возможностью нормативности одних при нарушении норм других, ср.: возможность языковых ошибок в правильно построенном документе и, напротив, ошибочно построенный документ при общей языковой правильности» [КРР 1998: 221]. Говоря о текстовых нормах официальных документов, Б. С. Шварцкопф характеризует прежде всего композиционные нормы построения текста определенной жанровой принадлежности (какие структурные элементы должны иметь место, порядок их следования друг за другом и графическую схему расположения). Таким образом, к речевым (текстовым) нормам исследователи относят нормы функционально-стилистические и жанровые (или 26
жанрово-ситуативные нормы, в рамках которых рассматриваются композиционные нормы). Поскольку функционально-стилистическая (речевая стилистическая) норма определяет построение высказывания (текста) в отдельных функционально-коммуникативных сферах, а в рамках этих сфер существуют разные «жанровые формы» [Скворцов 1996: 54], можно заключить, что понятие стилистической нормы включает в себя понятие «текстовых норм для данного типа коммуникации» (Радзиевская Т. В. Цит. по [Кириллова 2001: 71]), которое коррелирует с понятием жанровые нормы [Седов 2001: 112], отсутствующим, как отмечает Е. П. Захарова, в нормативных справочниках [Захарова 1999: 79]. Недостаточное ранее внимание ученых к проблеме жанровых норм объясняют тем, что исследования лингвистов проводятся обычно по схеме, в которой пропущено жанровое звено: норма литературного языка – норма языка художественной литературы – норма индивидуального стиля [Чайковский 1987: 102]. Речевые (текстовые) нормы основаны на среднестатистических показателях. Если «существование нормы языка или его разновидности предполагает возможность выбора определенной лингвистической единицы при условии существования иных вариативных (синонимически) возможностей» [Бектаев и др. 1977: 6], то «существование нормы речи предусматривает некоторую упорядоченность в той массе повторяющихся лингвистических элементов, которые составляют любой текст» [там же: 7]. При исследовании повторяющихся массовых явлений используют приемы теории вероятностей и математической статистики, так как «…система речи отличается от языковой системы и представляет собой такой вид, который доказывается и изучается статистическими методами анализа» [Матвеева 2004]. Л. К. Граудина отмечает, что понятие статистической нормы как некоего статистического множества выдвинул Г. Хердан14 и что аналогичный подход развивается К. Б. Бектаевым и Р. Г. Пиотровским, которые пишут: «Норма рассматривается, с одной стороны, как система вероятностей употребления лингвистических единиц (от букв и фонем до словосочетаний и синтаксических схем), наклады14
Подробный анализ концепции Г. Хердана см. в [Засорина, Тисенко
1972]. 27
вающихся на "внеположенную числу" систему языка. С другой стороны, норма может рассматриваться как форма вероятностного упорядочения и организации порождения текста» (Цит. по [КРР 2003: 365]). Именно лингвостатистическая методика позволяет «…с большей или меньшей объективностью и точностью оценивать степень нормативности отдельных лингвистических единиц и целых лексико-грамматических групп и классов, а также выделять такие единицы, употребление которых навязывается ситуацией и не подчиняется сложившимся в системе и норме языка правилам» [Бектаев и др. 1977: 42]. В работах Л. К. Граудиной статистическая норма понимается как «установленная система некоторых статистических показателей, характеризующих употребление языковых единиц в речи…» [Граудина 1977: 138]. Ю. Д. Апресян пишет, что в строе естественных языков нет ограничений, устанавливающих верхний предел протяженности фраз. В доказательство он приводит сочетания с четырьмя-пятью существительными в родительном падеже, которые часто встречаются и поэтому не вызывают удивления (Работники аппарата высшего органа законодательной власти республики; понимание необходимости сочетания уважения суверенитета ГДР); структурно родственные им словосочетания с последовательным подчинением инфинитивов (Я не мог решиться поручить ему пойти просить вас пожаловать к нам отобедать – пример С. Карцевского; Соединенные Штаты должны перестать пытаться различать диктаторов и демократические режимы); атрибутивные словосочетания (напр., все эти таинственные маленькие древние квадратные черные китайские бумажные коробочки – пример Р. Стокуэлла); «ложномногозначительные штампы современной прозы» вроде Причем вру и чувствую, что она понимает, что я вру. И даже хуже: она понимает, что я понимаю, что она понимает, что я вру (С. Гансовский)15 [Апресян 1966: 7]. Известно, что «теоретически бесконечное расширение синтаксической структуры на практике ограничено вероятностными пределами, связанными с объемом оперативной памяти человека, средней длиной высказывания и т.п.» [Норман 1994: 180-181]16. Однако 15
Этот пример может служить иллюстрацией очень редкого приема – конкатенации. 16 См. об этом также [Самгар 2003: 66]. 28
«…если устранить действие таких факторов, как ограниченный объем человеческой памяти, ограниченная продолжительность человеческой жизни и т.п., то, – пишет Ю. Д. Апресян, – следует признать, что грамматические правила языка допускают построение предложений сколь угодно большой длины. …Совершенно очевидно, что нельзя сформулировать простые правила, ограничивающие длину предложения, и очень сомнительна возможность сформулировать сложные правила такого рода, которые были бы конечными» [Апресян 1966: 7]. К такому же выводу пришел Б. Ю. Норман. «…Структура речевой единицы – высказывания, – пишет он, – может быть сколько угодно сложной, включающей в себя, в частности, многократное последовательное подчинение и соответственно многие уровни зависимости» [Норман 1994: 143]. Поэтому «безудержное» насыщение текста однородными членами воспринимается, по его мнению, скорее как прием, чем как речевая норма [там же: 180]. В. Г. Адмони отмечает, что важные для размера предложения объем и характер человеческой памяти вариабельны под влиянием формы, в которой протекает речевая деятельность (устная или письменная, монологическая или диалогическая и т.д.), тематического наполнения речи, степени эмоциональной насыщенности речи, особенностей стилистической установки говорящего и т.д.17 «В этом смысле понятия "короткое" и "длинное" предложение являются до некоторой степени относительными» [Адмони 1966: 113]. «Если в языке, – пишет он, – уже имеется система распространения основных (необходимых) членов предложения второстепенными членами и система сочинения и подчинения предложений, то теоретически можно безгранично раздвигать границы предложения, используя возможности этих систем без какого-либо их изменения. Но это справедливо именно только с абстрактно-смысловой точки зрения. А с точки зрения конкретной организации предложения, если рассматривать предложение и вообще грамматический строй как определенную систему построения, в которой властно проявляются такие требования, как требование "портативности" нерассыпающегося структурного единства и четкой членимости, всякое значительное увеличение размеров предложения означает необходимость пере17
Выявлению зависимости между размером предложения и его структурой в разных видах текста посвящена работа [Лесскис 1964]. 29
смотра ряда сторон грамматического строя…» в истории развития языка [там же: 114]. Различного рода нагромождения, таким образом, можно рассматривать как отклонения от среднестатистической речевой нормы построения текста или его части. Подтверждением является также тот установленный факт, что речевая система есть система вероятностно-статистического типа (см. об этом [Матвеева 1991: 10]). Хотя количественные оценки можно вводить, как утверждают исследователи, и в описание системы языка: «Система языка описывается парадигматическими и синтагматическими вероятностями, норма языка – нормирующими вероятностями, речь – выборочными, или речевыми, частотами» [Алексеев 1977: 50]; «именно речевая деятельность характеризуется вероятностными законами» [Засорина, Тисенко 1972: 102]. Речь, как и язык, характеризуется парадигматикой и синтагматикой. Поэтому «…нормирующая вероятность предстает в двух планах – парадигматическом и синтагматическом, но в отличие от уровня системы синтагматика здесь отражается в статистических вероятностях элементов и классов элементов, а парадигматика – в выборе из предлагаемых системой элементов тех из них, которые должны быть реально использованы в речи и, соответственно, в перераспределении парадигматических вероятностей между отбираемыми элементами». Причем «нормирующая вероятность является результатом действия как собственно языковых, так и экстралингвистических факторов» [Алексеев 1977: 56]. Ю. М. Скребнев вводит понятие нейтрального текста, для которого, по его мнению, характерен «общий принцип нерегулярности текстовой структуры» [Скребнев 1975: 82]. «Модель нейтрального текста» как абстрактного явления характеризуется определенными признаками, отклонение от которых представляет его «позитивную стилистическую значимость». Ю. М. Скребнев пишет: «Общей характеристикой нейтрального текста, т.е. текста неспецифического, не ассоциируемого с определенным речевым типом, является нерегулярная чередуемость и неповторяемость (или несущественная для восприятия хаотическая повторяемость) его элементов в синтагматическом плане. Принцип членораздельности речи состоит в том, что сообщение слагается из неидентичных дискретных элементов; каждый последующий элемент обычно отличается от предшествующего» [там же: 81-82]. 30
Названные закономерности прослеживаются в процессе употребления различных языковых единиц. Так, «фонетический аспект нейтрального текста характеризуется ритмической нерегулярностью; последовательности фонем чередуются вне каких бы то ни было закономерностей, непосредственно очевидных или существенных для отправителя и получателя речи». «Морфемика и, на следующем уровне, лексика нейтрального текста, в принципе, не обнаруживают повторяемости смежных элементов, – пишет далее исследователь. – Каждая данная морфема или слово в подавляющем большинстве случаев нетождественны предшествующим и последующим; их распределенность в тексте хаотична (закономерности могут быть вскрыты статистически, но для участников коммуникации значения не имеют)». «В синтаксическом аспекте нейтрального текста наблюдается необусловленность структуры самостоятельного предложения структурой окружающих его предложений (не говоря уже о том, что структуры смежных предложений, как правило, не совпадают)» [там же: 82]. Если обратиться к семантике текста, то и там, по мнению Ю. М. Скребнева, мы «…обнаруживаем аналогичную картину. В нейтральном тексте отсутствует, или почти отсутствует, совместная встречаемость или регулярная распределенность значений и типов значений единиц, составляющих текст, – преобладает логическая разнопорядковость смежных явлений» [там же: 83]. Наблюдения, подобные указанным выше, представлены и в европейских риториках. Так, авторы «Общей риторики» отмечают, что «…в обычном дискурсе никто не заботится о структурной упорядоченности и сбалансированности текста» [Дюбуа и др. 1986: 129] и что «нормативный синтаксис налагает запрет на слишком явную симметричность конструкций» [там же: 130]. И. Р. Гальперин пишет о «нейтральном стиле изложения» как о «некой замкнутой системе», в которой «…языковые средства лишены какой бы то ни было эмоциональной или повышенновыразительной окраски, которые полностью укладываются в понятие нормы» [Гальперин 1978: 62]. По сути дела, когда речь идет о нейтральном тексте, то имеются в виду среднестатистические закономерности построения текста вообще, а не конкретного текста, или, другими словами, так назы-
31
ваемая «общая речь», или узус в понимании В. Г. Гака18, в отличие от индивидуальной речи. Тем самым нейтральный текст – абстракция, или некий умозрительный конструкт, не существующий реально19. Тем не менее, очевидно, можно говорить о существовании среднестатистической нормы как системе статистических показателей, характеризующих «нерегулярность текстовой структуры», или нормы нерегулярной встречаемости однородных (в каком-либо отношении) языковых единиц. Отклонение от этой нормы (от «общего принципа нерегулярности текстовой структуры», или, если можно так выразиться, от нейтрального варианта речевой нормы) может быть функционально-стилистической нормой того или иного текста (например, лексические повторы в разговорной речи, рифма в поэзии). Абстракцией («вспомогательным методологическим конструктом») является и понятие «нейтрального стиля». Нейтральный стиль – «стиль, характерный для текстов, лишенных стилистической маркированности, и выделяемый в ряду: высокий – нейтральный – сниженный стили». Однако «живого Н. с., существовавшего во времена "трех стилей" в рамках "старой" стилистики, в совр. языке нет , – пишет Т. Б. Трошева, – он представлен лишь как пласт стилистически нейтральных языковых единиц разных уровней», поэтому о существовании нейтрального текста можно говорить лишь условно [СЭС 2003: 249]. Нужно иметь в виду, что противопоставление языковой и речевой (текстовой) нормы носит относительный характер. Так, исследователи пишут, что «строгое отделение языковых от стилистических норм возможно только в теоретическом плане» [Ризель 1973: 75], так как «стилистический феномен наличествует и в системе языка, и в функционировании последнего, т.е. в речи, тексте, однако только в последнем он раскрывается полноценно» [Кожина 1993: 25]. В рамках языка (в узком смысле) стилистическая норма есть совокупность 18
В. Г. Гак говорит о том, что у речи есть два аспекта: общая речь (узус) и индивидуальная речь [Гак 1979: 13]. 19 Ср.: В. П. Мурот «нейтральной» разновидностью литературного языка, на фоне которой проявляются особенности других функциональных стилей, считает обиходно-литературный стиль, бытующий в широком повседневном неспециальном общении [БЭС 1998: 567]. 32
стилистически окрашенных средств, то есть стилистических ресурсов языка20. Эта норма связана с представлением о единстве стиля как недопустимости столкновения в узком контексте средств с разными стилистическими маркировками. Намеренное столкновение разностильных, контрастных элементов, являющееся отклонением от этой нормы, является, как отмечает М. Н. Кожина, стилевой нормой для современного фельетона. Стилистические нормы она определяет как «…исторически сложившиеся и вместе с тем закономерно развивающиеся общепринятые реализации заложенных в языке стилистических возможностей, обусловленные целями, задачами и содержанием речи определенной сферы общения; это правила наиболее целесообразных в каждой сфере общения реализаций принципов отбора и сочетания языковых средств, создающих определенную стилистико-речевую организацию» [там же: 93-94]; «…то, что стилистически уместно, как раз и является нормативным для данного функционального стиля (или подстиля, жанра и т.д.)» [там же: 96]. Выделение оппозиции языковая норма – речевая норма восходит к проблеме интерпретации языковедами понятий «язык» и «речь», которая достаточно хорошо изложена во многих публикациях [Алефиренко 2005: 35-43; Звегинцев 1976: 12-20; Зубкова 2002; Львов 2000: 10-15; СЭС 2003: 358-360; Сидоров 1987б: 34-35 и др.].
20
«"Стили языка", – пишет М. Н. Кожина, – понятие условное (научная абстракция), призванное обозначить стилистические ресурсы языка (его стилистически окрашенные "слои" или "пласты"). Однако этому понятию недостает главного, с чем обычно связывается понятие стиля – системности. Причем не только системности в лингвистическом смысле – языковостилистической, но и более глубокой, которая прежде всего и осмысляется обычно как стиль. В любой области, к которой применим термин "стиль" (в терминологическом значении), данное явление (понятие) не ограничивается лишь внешними признаками, деталями, окрасками и т.п.; последние составляют лишь материал, представляют собой лишь элементы для стилистического построения, для создания и выражения стиля в полном смысле этого слова (ср. стиль в архитектуре, живописи, литературе, музыке) как системы взаимосвязанных элементов различных "уровней"…» [Кожина 1972: 55]; «…стилистическое – по своей природе явление р е ч е в о е, ф у н к ц и он а л ь н о е, а следовательно, оно не может быть в полную меру познано и объяснено л и ш ь в узкоязыковом (или системно-языковом) аспекте…» [там же: 108-109]. 33
Известно, что различение языка и речи не есть отрицание их взаимосвязи. Речь – система языка в действии, функционировании его элементов [Солнцев 1977: 6; Кожина 1972: 56 и др. исследователи]. «Язык и речь, точнее собственно системный (строевой) и функциональный аспекты языка, составляют единство, но не тождество. В процессе функционирования проявляются богатейшие творческие возможности языка, которые и фиксируются в речевых произведениях, в текстах, но никогда не исчерпывают себя благодаря бесконечному разнообразию экстралингвистических ситуаций и факторов (в их комбинациях), обусловливающих закономерности функционирования языка» [Кожина 1993: 10-11]. «Языковая система получает канал закрепления, уточнения и изменения своих единиц, категорий, правил и механизмов в производимых и воспринимаемых текстах; с другой стороны, тексты получают от системы языка определенную совокупность единиц, категорий, правил и механизмов (моделей), реализация коммуникативных потенций которых дает возможность осуществлять координацию коммуникативных деятельностей» [Сидоров 1987в: 43-44]. Взаимосвязь языка и речи проявляется в том, что «нормы непосредственно обращены к использованию языка как средства общения, к его функционированию, к употреблению слов и предложений. Целью существования нормы является регулирование в речи единообразного и "правильного" воспроизведения слов и построения предложений. Норма – это идеализированное воплощение всеобщего в качестве обязательного в бесчисленных конкретных актах речевой коммуникации между отдельными индивидуумами» (курсив наш. – Г. К.) [Лыков 1977: 72]. Поэтому понятие нормы не может быть описано лишь в системно-языковом аспекте (как нормы структуры). Язык нам дан как идеально-абстрактная система, и нормирование мы осуществляем применительно к процессу реализации этой системы в определенный исторический период. Рассматривая проблему норм, языковеды оперируют понятием узуса, которое по-разному соотносят с понятиями языковой нормы и нормы речевой. Одни исследователи «норму речи» и «узус»21 ото21
Узус трактуют как «неосознанную и некодифицированную норму» [Алексеев 1977: 47]; как «всю совокупность реальных употреблений языка» [Семенюк 1970: 558], «языковой обычай» [Скворцов 1970: 41]; как «общепринятое употребление слова или фразеологического оборота», а также как 34
ждествляют (см., напр.: [Баграмова 1990: 138; Петрова 2004а: 16; Русецкая 1990: 227; Медникова 1979: 32; Пекарская 2002: 27]), другие – «норму речи» и «узус» как гипонимы объединяют под термином «норма» [Бектаев и др. 1977: 6]. Понятие «узус» считают более широким по отношению к языковой норме на том основании, что узус включает как традиционные, устойчивые, правильные, так и нетрадиционные, окказиональные и ошибочные реализации [Семенюк 1970: 559]. Есть также точка зрения, согласно которой языковая норма – это не только «выборочная реализация системы, (стихийно) регулируемая обществом», но и «узус, не обязательно соотносящийся с системой» [Мыркин 1998: 23]. Ю. С. Степанов общепризнанные, правильные реализации называет нормой речи в узком смысле (или просто «нормой»), а все существующие реализации – нормой в широком смысле (цит. по [Шварцкопф 1970: 378]). Тем самым нормы речи в узком смысле – это нормы использования языка, а нормы речи в широком смысле – узус (общепринятое употребление), в том числе нелитературный (соотносящийся с нелитературными формами существования языка). Если под нормами языка понимать собственно языковые нормы, а под нормами речи – нормы функционирования языковых единиц, то следует признать, что нарушение языковой нормы не обязательно влечет за собой несоблюдение нормы речи как текста. Очевидно, именно это имеют в виду исследователи, когда пишут о том, что «регулярность и известная однотипность целого ряда "нарушений" грамматических правил в поэтической речи наводит на мысль о существовании некоторых общих внутренних тенденций, характеризующих употребление языка в поэзии. Такие тенденции должны отвечать функциональному назначению поэтической речи» [Ковтунова 1988: 167], в которой «…выработалась способность поэтических текстов служить позицией нейтрализации грамматических противопоставлений» [там же: 175]. Наиболее удачное и полное на сегодняшний день определение текстовой нормы было дано А. П. Сковородниковым: «Нормы рече«…более частные нормы (в отличие от общезначимой нормы литературного языка) – в этом смысле говорят об узусе научного изложения, языковом узусе заводской молодежи, речевом (или языковом) узусе эмигрантов и т.п.» [Мечковская 2000: 34]. 35
вые, или текстовые, – это правила построения письменного и устного текста, обеспечивающие его связность, цельность22 и однозначность, а также среднестатистические языковые характеристики текстов определенной стилевой и/или жанровой принадлежности» [СЭС 2003: 368]. Учитывая существование нормы индивидуального стиля, по которой возможна идентификация текстов того или иного автора, а также трудность оценивания критерия однозначности в аспекте целого художественного текста, который может по-разному интерпретироваться, полагаем, что приведенное определение текстовой нормы может быть уточнено следующим образом: текстовые нормы – это правила построения письменного или устного текста, обеспечивающие его связность, цельность, адекватность авторской интенции, а также среднестатистические языковые характеристики текстов определенной стилевой, жанровой и индивидуально-стилевой принадлежности23. Такое определение текстовой нормы характеризует нормы речи как явление статическое, в отличие от динамического (нормы речи – нормы речевого поведения). Несколько значений у термина «текстовая норма» выделяет Н. С. Болотнова: «1) исторически сложившиеся, принятые в обществе относительно устойчивые правила текстовой деятельности, на основе которых создаются эталонные для определенной сферы общения тексты; 2) система коммуникативно-прагматических, жанровостилистических, композиционно-речевых и других норм, соответствующая определенному типу текста, отражающая его многоплановость, коммуникативную сущность и экстралингвистическую ориентацию; 3) гармоничная организация всех элементов структуры в соответствии с авторским замыслом и ориентацией на адресата» [Болотнова 2005: 93]. Первое (соответствие речи правилам текстообразования) и частично третье (соответствие текста авторскому замыслу) значения представлены в уточненном выше определении текстовой нормы. Критерий ориентации на адресата (в третьем значении) относится прежде всего к лингвопрагматической (коммуникативнопрагматической) норме. Текстовая норма во втором (самом широ22
Именно связанность (связность) и цельность являются основными свойствами той объединенной по смыслу последовательности знаковых единиц, которая именуется текстом [Валгина 2004: 12]. 23 Признается существование нормы индивидуального стиля, по которой возможна идентификация текстов того или иного автора. 36
ком) значении включает в себя нормы: коммуникативнопрагматические (учет фактора адресата, выбор оптимального канала связи с ним, соответствие сфере и ситуации общения); жанровостилистические (соответствие «законам определенных жанров и стилей»); композиционно-речевые (мотивированная последовательность частей, их логичность и пропорциональность, оправданный выбор композиционно-речевых приемов; сюда же исследователь относит соблюдение языковых норм – орфоэпических, лексических и т.д.); текстовые нормы, связанные с техническим оформлением (правила оформления сносок, библиографии, статистических данных, правила цитирования, деление текста на абзацы и т.д.) [там же: 94-95]. Другими словами, при широком понимании текстовой нормы в нее включают нормы речи как нормы вербального поведения.
3.2. Нормы речи как нормы вербального поведения, или лингвопрагматические нормы По наблюдениям А. К. Михальской [Михальская 1998а: 307], тезис о том, что изучение речевого поведения имеет отношение к «языку в его использовании», впервые был провозглашен Дж. Сирлем24 во введении к работе «Речевые акты: эссе по философии языка». Нормы речи как нормы вербального поведения составляют коммуникативные постулаты (принципы, постулаты дискурса) и правила. Эти нормы также называют речеповеденческими, лингвоэтологическими25 [СЭС 2003: 370], лингвопрагматическими [Сковородников 2005в: 165]), коммуникативными [Самгар 2003: 61], коммуникативно-прагматическими [Болотнова 1999: 65], конвенциональными нормами речевого поведения [Колтунова 2007: 197]26, 24
В таком написании (Сирль, а не Серль) фамилия ученого дана у А. К. Михальской. 25 Термин «лингвоэтология» используется А. К. Михальской [Михальская 1998а: 20]. Этология – «наука о поведении животных в естественных условиях» [Ожегов, Шведова 2003: 914]. 26 По замечанию С. А. Сухих, понятие конвенциональности было заимствовано лингвистикой из логики и философии позитивистского толка в качестве объяснительного принципа интеракции людей. Конвенциональ37
конверсационными нормами27 и нормами речевого общения [Сухих 1987: 97]. Совокупность принципов, постулатов речевого общения составляют, по мнению исследователей, «коммуникативный кодекс» [Арутюнова, Падучева 1985: 27]. В процессе изучения литературы, так или иначе рассматривающей вопросы речевой нормы, обращаешь внимание, во-первых, на отсутствие единой точки зрения на соотношение понятий закон, постулат, принцип, максима, правило речевого поведения и, во-вторых, на многообразие постулатов коммуникации и отсутствие их общепринятой типологии. 3.2.1. Закон, принцип, постулат, максима, правило речевого поведения / общения: к проблеме определения понятий При изучении / описании речевых норм исследователи неизбежно обращаются к понятиям принципа, постулата, максимы, правила речевого поведения (общения), характеристика которых в учебных пособиях по дисциплинам коммуникативного цикла (культуре речи, риторике, стилистике и т.д.) обычно сводится к изложению теорий Г. П. Грайса, Дж. Лича, Д. Гордона и Дж. Лакоффа, а сами перечисленные понятия рассматриваются как синонимические. В некоторых случаях исследователи оперируют также понятием закона речевого общения. В диссертационных работах предпринимаются попытки разграничения названных понятий. Так, Э. М. Гукасова справедливо отмечает, что в нашей философской и естественнонаучной литературе нет еще четкого разграничения понятий закона, принципа, постулата и правила общения. Тем не менее она утверждает: «Считается, ность исследователь понимает как «ситуативно обусловленное стремление к кооперативному взаимодействию (даже несмотря на тот факт, что один из партнеров не может следовать нормам общения)» [Сухих 1987: 96]. Конвенциональность может быть представлена не только символическими правилами поведения, но и системой грамматических правил, на что указывал Вундерлих (на него ссылается С. А. Сухих). Конвенциональными считаем и собственно языковые, и речевые нормы. 27 Конверсационные нормы как «устойчивые стандартные схемы речевых действий» трактуются в [Соколова 2005: 45]. 38
однако, что принципы – это чисто логический феномен, который специально создается в процессе систематизации знаний, но в отличие от закона объективно в природе не существует» [Гукасова 2000: 92]. Казалось бы, критерий разграничения принципа и закона найден, но далее читаем: «Как и другие элементы науки, принципы находятся в единстве с научными законами. Это, с одной стороны, проявляется в том, что любой закон может выступать в функции принципа, а с другой – каждый принцип является законом в его гносеологической функции». Такое рассуждение еще более запутывает, особенно если учесть следующее высказывание: «Однако принципы не всегда отражают законы». По мнению автора диссертационной работы, «они могут выступать в форме постулатов, т.е. предварительных положений (правдоподобных предположений), которые служат основой для крупных теоретических обобщений. Можно сказать, что постулат, являясь начальной формой организации знания при создании новой теории, выполняет функцию принципа в процессе его становления. Став же принципом, он начинает выражать объективный закон» [там же]. Такое соотношение рассматриваемых понятий нельзя считать удачным, поскольку оно не вносит ясности в проблему разграничения понятий закон, принцип, постулат, правило общения и оказывается совершенно неприменимым в методическом аспекте при изучении коммуникативной нормы. С. И. Байгина обращает внимание на то, что постулат, аксиома, гипотеза, научный закон «…обладают своеобразными функциональными возможностями, тем не менее в обыденной жизни и научной практике часто термин, принятый для обозначения одной из познавательных операций, используют для обозначения другой» [Байгина 2000: 18]. При разграничении этих понятий она, как и Э. М. Гукасова, утверждает, что постулат – это «положение теории, не отличающееся самоочевидностью, т.е. имеющее предположительный характер» [там же: 19], положение, которое базируется на существующих научных и других доказанных данных и является «динамическим развитием какой-либо теории» [там же: 24]. Заметим, что в таком рассуждении нарушен закон противоречия, поскольку одновременно утверждаются противоположные суждения: с одной стороны, отмечен предположительный характер постулата, с другой – его научная доказанность. По мнению Л. А. Азнабаевой, трудность дифференциации терминов «принцип», «постулат», «максима» вызвана тем, что «…при 39
применении многозначного термина, заимствованного из другой науки, лингвисты фокусируют внимание на различных значениях этого термина. Несогласованность употребления ведет к размытости, нечеткости значения термина и, в результате, неадекватности его восприятия» [Азнабаева 1999: 61]. Источниками не вполне дифференцированного употребления таких понятий исследователь считает наличие общих сем, например, у слов «принцип» и «постулат» («то, что берется за основу рассуждения») и характеристику одного понятия при помощи другого из этого списка («максима – это принцип, правило поведения») [там же: 66]. Считается, что термин «постулаты речевого общения», или «коммуникативные постулаты», ввел в науку Г. П. Грайс, поэтому при описании постулатов ссылаются на его труды. Однако обратим внимание на один немаловажный, с нашей точки зрения, факт. В статье «Логика и речевое общение», на которую обычно и ссылаются исследователи, Г. П. Грайс не дает определений понятиям принципа и постулата речевого общения. Он лишь пишет: «Допустим, какой-то общий принцип вроде Принципа Кооперации принят; тогда можно выделить и более конкретные п о с т у л а т ы, соблюдение которых в общем и целом соответствует выполнению этого принципа» (курсив наш. – Г. К.) [Грайс 1985: 222]. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие отечественные исследователи употребляют понятия «принцип общения» и «постулат общения» как синонимические. В частности, в словаре-справочнике «Культура русской речи» словарная статья, посвященная постулатам общения, озаглавлена так: «Постулаты (импликатуры, максимы, принципы) речевого общения, коммуникативные постулаты» [КРР 2003: 495]. Л. Е. Тумина пишет: «ПОСТУЛАТЫ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ – правила речевого общения, определяющие его успешность. Коммуникативные постулаты (импликатуры, максимы, принципы, правила) выделены в прагматике на основании практических наблюдений за действительными, преимущественно обиходными взаимодействиями людей» [ЭК 2005: 509]. Общие компоненты содержатся также в следующих определениях принципа и постулата: «Принцип – основное, исходное положение какой-либо теории, учения; руководящая идея, основное правило деятельности. Постулат – то же, что аксиома – отправное, исходное положение теории, бесспорная истина, не требующая доказательств. Максима – основное правило, выраженное в краткой формуле, правило, норма поведения» (курсив наш. – Г. К.) [Форма40
новская 2002: 49]. Полагаем, что с синонимизацией понятий «принцип» и «постулат» (и отсюда целесообразностью взаимозаменяемости принципа постулатом) нельзя согласиться, особенно если обратиться к работе Д. Гордона и Дж. Лакоффа «Постулаты речевого общения». Одна из задач написания этой работы заключалась в том, чтобы «наметить пути формализации принципов речевого общения и включения их в теорию порождающей семантики» [Гордон, Лакофф 1985: 276]. Авторы пишут: «Мы сформулируем принципы речевого общения в виде постулатов, называемых п о с т у л а т а м и р е ч е в о г о о б щ е н и я, или к о м м у н и к а т и в н ы м и п о с т у л а т а м и , которые могут быть заданы в том же формате, что и постулаты значения» [там же: 277]. Приведенные высказывания свидетельствуют о том, что Д. Гордон и Дж. Лакофф не отождествляют понятия «принцип речевого общения» и «постулат речевого общения». Это подтверждает и дальнейшее изложение материалов их исследования. Анализируя высказывания (4а) – (4d), они пишут, что в предложении (4а) субъектом предиката ХОЧЕТ является а, то есть говорящий. Поэтому постулат ИСКРЕННЕ (а, ПРОСИТ (а,b, Q)) → ХОЧЕТ (а, Q) исследователи называют «условием искренности, ориентированным на говорящего». В высказываниях же (4b)-(4d) b, то есть слушающий, является подлежащим в предложении, которое указывает, чтό предполагается говорящим, поэтому соответствующие постулаты называют «условиями искренности, ориентированными на слушающего» [там же: 279]. (4) а. I want you to take out the garbage ’Я хочу, чтобы ты вынес мусор’. b. Can you take out the garbage? ’Можешь ли ты вынести мусор?’ с. Would you be willing to take out the garbage? ’Склонен ли ты вынести мусор?’ d. Will you take out the garbage? ’Вынесешь ли ты мусор?’ Д. Гордон и Дж. Лакофф пишут: «Мы видим, что: (6) Просьбу можно выразить посредством (а) утверждения условия искренности, ориентированного на говорящего, или (б) вопроса к условию искренности, ориентированному на слушающего. Иными словами, (6) задает следующие постулаты речевого общения: 41
(7) а. ГОВОРИТ (а,b, ХОЧЕТ (а, Q)* → ПРОСИТ (а,b, Q) b. СПРАШИВАЕТ (а,b, МОЖЕТ (b, Q))* → ПРОСИТ (а,b, Q)
с. СПРАШИВАЕТ (а,b, СКЛОНЕН (b, Q))* → ПРОСИТ
(а,b, Q)
d. СПРАШИВАЕТ (а,b, Q)* → ПРОСИТ (а,b, Q), где Q имеет вид БУДУЩЕЕ (ДЕЛАЕТ (b, R)) [’ b сделает действие R’]» [там же], а звездочка обозначает тот факт, что указанные иллокутивные содержания применимы только к определенным ситуациям (классам ситуаций): «Предложение типа Can you take out the garbage? ’Можешь ли ты вынести мусор?’ вне контекста неоднозначно: оно может быть реальным вопросом, то есть просьбой к слушающему сообщить информацию о том, может ли он вынести мусор, или же выражать просьбу к слушающему сделать это. Однако оно может выражать просьбу только в том случае, если слушающий считает, что говорящий не имеет в виду задать реальный вопрос. Иначе говоря, коммуникативно имплицированное значение (просьба) может быть выражено только тогда, когда не имеется в виду буквальное значение (то есть вопрос) и слушающий это понимает» [там же]. Процитированное свидетельствует, с нашей точки зрения, о том, что под «постулатами» Д. Гордон и Дж. Лакофф понимают способы формализации тех или иных принципов речевого общения и условий их соблюдения (в работе они анализируют условия искренности и условия мотивированности). Если постулат понимать как способ формализации принципа общения (формализованный принцип, способ предъявления принципа в виде нормативного предписания, рекомендации на более высоком уровне абстракции и обобщения, чем правило), то между принципом и постулатом следует признать отсутствие синонимических отношений. Термин прагматические правила употребляется в научной литературе в двух значениях. С одной стороны, под прагматическими правилами понимают правила речевого общения, с другой – правила, регулирующие функционирование языковой единицы и обусловленные ее значением28. При использовании этого термина для обозначе28
Так, Д. О. Добровольский, по его словам, вслед за Г. Фритцем под прагматическими правилами понимает «условия, зависящие от социального статуса говорящих, от коммуникативной констелляции, ситуации, типа коммуникативного акта и типа текста» [Добровольский 1985: 3]. И далее он 42
ния правил общения его не всегда четко разграничивают с «принципом». Это можно проследить на основе различных классификаций правил. Так, например, В. А. Полынкин правила межличностного общения подразделяет на три типа – субстанционально ориентированные, коммуникативно ориентированные и ритуально ориентированные. Первые, по его мнению, отражают моральные, этические ценности и поддерживаются во всех обществах (это указания типа «Не укради!»). Ко вторым он относит постулаты П. Грайса, к третьим – конвенциональные средства коммуникации, как языковые, так и неязыковые (в частности, правила вежливости), с помощью которых определяется и поддерживается общественный статус коммуникантов [Полынкин 1990: 114-115]. То, что Г. П. Грайс называет категориями («категориями Количества, Качества, Отношения и Способа» [Грайс 1985: 222]), именуют иногда правилами, говоря о «правиле качества», «правиле количества», «правиле релевантности» и «правиле модальности» [Трошина 2000: 64-65]. Критерии разграничения понятий правила общения и принципы общения, пожалуй, удачно намечены И. А. Стерниным, который пишет: «Правила общения – это сложившиеся в обществе рекомендации по общению» [Стернин 2001: 121]; «Наиболее общие правила универсального характера называют принципами», при этом под общими правилами имеются в виду те, которые «помогают эффективному общению со всеми типами собеседников, во всех или почти во всех ситуациях». Таким образом, под принципами общения понимаются «наиболее общие, глобальные правила, следование которым в том или ином обществе привычно или необходимо и обеспечивает эффективность как общения вообще, так и речевого воздействия» [там же: 123]. Правда, И. А. Стернин выделяет еще и «приемы общения» – «конкретные рекомендации по языковому или поведенческому выполнению того или иного коммуникативного правила» (например: «Подходите ближе!», «Дотрагивайтесь до собеседника») [там же: 122], что нам не представляется целесообразным, поскольку, ис-
пишет: «…о прагматических правилах мы говорим на уровне коммуникации, а на уровне языковой системы тот же феномен выступает в форме определенных семантических признаков. Эти семантические признаки… непосредственно определяют ее [языковой единицы. – Г. К.] комбинаторные потенции» [там же: 7-8]. 43
ходя из приведенного определения «приемов общения», можно заключить, что правило абстрактно (не конкретно). Таким образом, в отечественной научной литературе применительно к речевому общению преобладает синонимическое употребление понятий «принцип», «постулат», «максима», «правило». Но предпринимаются и попытки их разграничения: правила, в отличие от принципов, носят рекомендательный характер (И. А. Стернин), а постулат является не только предположительным суждением той или иной развивающейся теории (Э. М. Гукасова, С. И. Байгина), но и ее исходным положением, которое возникло на основе практических наблюдений над речевыми фактами29. Очевидно, синонимическое использование понятия «принцип» и «постулат» применительно к речевому общению объясняется тем, что на данном этапе развития языкознания не существует какой-либо общепринятой теории коммуникативной нормы. Понятие закона общения в научных работах по лингвистике используется гораздо реже, по сравнению с «принципом», «постулатом» и «правилом общения». Оно встретилось нам в работах И. А. Стернина, Ю. В. Рождественского. О законах риторики пишет А. К. Михальская. Посмотрим, что понимают под законом названные исследователи. А. К. Михальская формулирует четыре закона современной общей риторики. Первый закон – «закон гармонизирующего диалога» (эффективное речевое воздействие возможно только при диалогическом взаимодействии участников речевой ситуации) – соблюдается, по мнению исследователя, при соответствии речи принципам речевого поведения (принцип внимания к адресату, принцип близости, принцип конкретности, принцип движения). Второй закон – «за-
29
Эти признаки постулата содержатся в следующем его определении: постулат – «требование, предположение, которое является реально необходимым или должно быть мыслимым. Это предположение, которое не нуждается в строгом доказательстве, но должно быть сделано веско и обосновано (правдоподобно) на основе фактов или исходя из систематических или практических объяснений» [ФЭС 2006: 356]. Не требует доказательств, согласно «Философскому энциклопедическому словарю», и принцип: в одном из значений это «основополагающее теоретическое знание, не являющееся ни доказуемым, ни требующим доказательства…» [там же: 363]. 44
кон ориентации и продвижения адресата»30 (говорящий должен осведомлять адресата о том, какова «карта речи», сообщать о позиции на этой «карте» и создавать ощущение движения) – реализуется при помощи принципов построения речи и правил ее произнесения. Третий закон – «закон эмоциональности речи» (говорящий должен прочувствовать предмет речи и уметь выразить свои эмоции так, чтобы не оставить слушателя равнодушным) – основан на соблюдении принципа использования выразительных средств языка. Четвертый закон – «закон удовольствия» (действенна та речь, которая доставляет радость слушателю, делает общение приятным) – реализуется при помощи «игровых фигур» и принципа разнообразия речи. Второй, третий и четвертый закон в концепции А. К. Михальской раскрывают первый закон и показывают, как он осуществляется в риторической деятельности. Выделенные законы дают представление о том, что требует риторика от говорящего, и отражают «принцип гармонии речевого события» [Михальская 1996а: 80-93]. Однако и говорящий, и слушающий должны придерживаться в общении принципа коммуникативного сотрудничества, сущность которого исследователь излагает, опираясь на правила речевого поведения Г. П. Грайса в сопоставлении с идеями Аристотеля [Михальская 1996а: 94; Михальская 1998а: 347-348]. Заметим, что определение понятию «закон риторики» А. К. Михальская не дает. Говоря о «законах риторики», она, по сути, характеризует законы общения. Судя по формулировке обозначенных выше законов, можно предположить, что законами риторики она называет некие условия, которых говорящий должен придерживаться в речи, если хочет, чтобы она была эффективной. В отличие от А. К. Михальской, И. А. Стернин в книге «Введение в речевое воздействие» законами называет объективно существующие закономерности в общении, соблюдающиеся вне зависимости от воли говорящего: «Общие законы общения (коммуникативные законы) описывают, что происходит между собеседниками в процессе общения» и «реализуются в общении независимо от того, кто говорит, о чем, с какой целью, в какой ситуации и т.д.» [Стернин 2001: 121]. Исследователь выделяет довольно большое количество законов общения. Назовем лишь некоторых из них:
30
Его она также называет «законом хронотопической ориентации адресата» [Михальская 1998а: 412]. 45
– закон зеркального развития общества (собеседник в процессе коммуникации имитирует стиль общения своего собеседника); – закон зависимости эффективности общения от объема коммуникативных усилий (чем больше коммуникативных усилий затрачено говорящим, тем выше эффективность его речевого воздействия); – закон прогрессирующего нетерпения слушателей (чем дольше говорит человек, тем большее невнимание и нетерпение проявляют его слушатели); – закон речевого самовоздействия (словесное выражение идеи или эмоции формирует эту идею или эмоцию у говорящего); – закон доверия к простым словам (чем проще твои мысли и слова, тем лучше тебя понимают и больше верят); – закон притяжения критики (чем больше вы выделяетесь из окружающих, тем больше о вас злословят и тем больше людей подвергает критике ваши действия); – закон ускоренного распространения негативной информации (негативная информация имеет тенденцию к более быстрому распространению, нежели информация позитивного характера); – закон детального обсуждения мелочей (люди охотнее сосредоточиваются на обсуждении незначительных вопросов и готовы уделять этому больше времени, чем обсуждению важных проблем); – закон узкого круга (постоянное круглосуточное общение с узким кругом людей притупляет взаимный интерес людей друг к другу и ведет к взаимному отторжению и конфликтам); – закон ближнего круга (степень доверия собеседнику прямо пропорциональна степени его социальной близости к адресанту); – закон речевого поглощения эмоций (при связном рассказе о переживаемой эмоции она поглощается речью и исчезает) [там же: 121-146]. Ю. В. Рождественский при описании правил поведения говорит о следующих законах: – «закон диалогической социализации» («основные правила диалога предполагают социализацию человека через речь» [Рождественский 1997: 339]); – «закон разделения видов словесности» («виды речи различаются благодаря правилам этоса» [там же: 341]); – «закон постоянной социализации» («правила этоса приводят к бесконечной продолжительности диалога» [там же: 343]); 46
– «закон устранения вреда от речи» (диалог предполагает защиту слушающего от говорящего, слушающий определяет, не нанесет ли ему говорящий скрытого и явного ущерба) [там же: 348]); – «разделение по очередности времени и персоналиям называется дебатированием» (наименования закона не дано) [там же: 351]. Не рассматривая вопрос об удачности формулировок и целесообразности выделения исследователями того или иного закона, подчеркнем, что И. А. Стернин и Ю. В. Рождественский законами (судя по их наименованиям) считают не предписания для говорящего / слушающего, а некоторые закономерности и психологические особенности речевого поведения (И. А. Стернин) и даже определения понятий (см. выше последний закон Ю. В. Рождественского). Поэтому неслучайно И. А. Стернин не называет обозначенные им законы законами эффективного общения. Коммуникативные законы (законы общения), как отмечает этот исследователь, нежесткие, вероятностные, частично имеющие определенную национальную специфику, в отличие от законов физики, химии или математики [там же: 121]31. Следовательно, термин «закон» применительно к речевой коммуникации исследователи используют в разных значениях. Н. С. Болотнова текстовую норму связывает с соблюдением «коммуникативных универсалий» как обусловленных коммуникативной природой текста закономерностей его словесной организации, к которым она относит законы и реализующие их принципы. В сфере художественной литературы, по мнению исследователя, действуют, например, такие законы, как закон эстетически обусловленной смысловой «избыточности», закон эстетически ориентированной экономии языковых средств, закон гармонического соответствия текстовой парадигматики и синтагматики, закон гармонического соответствия типовых и уникальных текстовых ассоциаций [Болотнова 2005: 97]. 31
О нежесткости нормы, в отличие от закона: «Хотя норма имеет тенденцию к обязательности, не знающей исключений, она никогда не может достичь силы закона природы, в противном случае она стала бы законом и утратила значение нормы» [Мукаржовский 1994: 60]. Ср.: «Норма выражает то, что существует или должно существовать во всех без исключения случаях, в противоположность закону, который говорит лишь о существующем и происходящем, и правилу, которое может быть выполнено, а может быть и не выполнено» [ФЭС 2006: 306]. 47
Учитывая позицию А. К. Михальской и принимая во внимание современную концепцию культуры речи, ориентированную на решение проблемы оптимального речевого воздействия и взаимодействия, под законом эффективного общения можно понимать только объективные условия эффективного общения, тогда принцип эффективного общения можно определять как «перевод» этого закона в модальность предписания (нормы) на наиболее высоком уровне абстракции и обобщения, чем постулат и правило. Крупнейший французский математик А. Пуанкаре высказал соображение о том, что на основе каждого закона может быть сформулирован принцип как регулятивное предписание, но при этом сами законы будут продолжать существовать в своем статусе (см. об этом [Микешина 2005: 118]). Полагаем, что можно говорить о существовании теории речевой (лингвопрагматической) нормы как системы научных принципов (основных положений), обобщающих практический речевой опыт народа и отражающих закономерности (регулярно повторяющиеся явления) речевого общения. Эти принципы могут быть общими (отражающими самое существенное и потому соблюдаемыми в норме во всех коммуникативных ситуациях) и частными (составляющими компонентами общего принципа; отдельными частями, реализующими его). Общие и частные принципы детализируются в правилах – конкретных рекомендациях по оптимизации речевого взаимодействия. Так, принцип кооперации Г. П. Грайса является общим по отношению к частным принципам – принципу информативности, принципу правдивости и т.д. Частные принципы речевого общения мы называем постулатами. За максимой закрепилось значение выражения некоторой идеи в краткой, лаконичной форме, что нашло отражение в различных словарях и справочниках32. Поэтому постулат, сформулированный кратко, лаконично («в констатирующей или наставительной форме» [КРР 2003: 317]), может быть обозначен как максима. Таким образом, принципами речевого общения мы называем основные положения теории лингвопрагматической (коммуникативно-прагматической) нормы, обобщающие практический 32
Ср.: максима – «…всеобщее жизненное правило, субъективный принцип воли, краткое изречение» [ФЭС 2006: 255]; «…логический или этический принцип, выраженный в краткой форме, правило поведения» (курсив наш. – Г. К.) [БСИС 2003: 385]. 48
опыт народа и отражающие закономерности речевого общения; постулатами речевого общения – принципы частного порядка, направленные на реализацию основных положений (руководящих идей, установок), которые должны соблюдаться во всех коммуникативных ситуациях; правилами речевого общения – конкретные рекомендации по оптимальному речевому взаимодействию, реализующие те или иные постулаты общения. Определение и соотношение понятий закона, принципа, постулата, максимы, правила речевого поведения – это лишь одна из проблем современной лингвопрагматики. Не получены ответы на не менее важные вопросы: каково оптимальное количество принципов, постулатов эффективного общения; какой должна быть их классификация? Не ставя перед собой задачи поиска ответов на эти вопросы, проследим, что общего в различных трактовках и типологиях принципов и постулатов коммуникации. 3.2.2. Проблема классификации принципов и постулатов речевого общения При описании принципов, постулатов речевого общения исследователи неизбежно обращаются к работам Г. П. Грайса, в которых с целью объяснения механизма имплицирования вводится понятие «Принципа Кооперации»33. Обычно цитируется следующее его высказывание, объясняющее суть этого принципа: «Твой коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель (направление) этого диалога» [Грайс 1985: 222]. Представляется, что более точно смысл принципа кооперации и целесообразность его соблюдения переданы в такой формулировке: «…От всякого, кто стремится к достижению конечных целей речевого общения / коммуникации… ожидается, что он заинтересован в этом общении…» [там же: 226]. Г. П. Грайс выделяет четыре постулата, реализующих Принцип Кооперации, которые он, вслед за Кантом, называет категориями:
33
Здесь и далее в наименовании принципов сохраняются те орфографические написания, которые представлены в русских переводах или в первоисточнике. 49
1. Категория количества: твое высказывание должно содержать информации не больше и не меньше, чем требуется для выполнения текущих целей диалога. 2. Категория качества: старайся, чтобы твое высказывание было истинным, то есть не говори того, что считаешь ложным, и того, для чего у тебя нет достаточных оснований. 3. Категория отношения, или постулат релевантности: не отклоняйся от темы, говори по существу. 4. Категория способа: выражайся ясно, то есть избегай непонятных выражений, неоднозначности, будь краток и организован [там же: 222-223]. Постулат отношения и частично постулат качества (в формулировках Г. П. Грайса) имеют прямое отношение к законам формальной логики: постулат «не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований» (т.е. того, что не можешь доказать) связан с законом достаточного основания; постулат же отношения сводится к соблюдению в речи закона тождества. Заметим, что Г. П. Грайс в названной статье не оперирует понятием и термином «максима», который употребляют многие, говоря об этой концепции. Важно и то, что выделенные категории (постулаты), как отмечает сам исследователь, не однопорядковы в том смысле, что категория способа «касается не того, чтó говорится (как остальные категории), а скорее того, кáк это говорится» [там же: 223]. Кроме того, по мнению Г. П. Грайса, «существуют постулаты и иной природы (эстетические, социальные или моральные) – такие как, например, "Будь вежлив"…» [там же]. Эта мысль Г. П. Грайса о неоднопорядковости постулатов общения, как нам кажется, не получила должного развития в современной риторике и прагматике. Сформулированные им постулаты носят универсальный характер, так как, во-первых, они соблюдаются в ситуациях и неречевой коммуникации, на что указывал сам исследователь, и, во-вторых, «эмпирически достоверный факт состоит в том, что люди н а с а м о м д е л е ведут себя таким образом…» [там же: 224], т.е. в соответствии с подобными принципами. Однако Н. И. Формановская не без оснований пишет: «…Анализ реальных текстов общения приводит к выводу, что коммуникативные взаимодействия партнеров далеко не всегда построены в соответствии с этими правилами. Более того, такие правила слишком часто нарушаются, значит, их можно назвать несколько идеализированными» [Формановская 2002: 50-51]. 50
Недостатком постулатов Г. П. Грайса считают также придание им общего характера, в то время как они оказываются эффективными лишь в неконфликтных социальных ситуациях. Отсюда, по мнению А. Г. Баранова, дополнение принципа Кооперации (Сотрудничества) иными принципами, «спасающими» его в затемненных ситуациях, либо опровержение его и выдвижение другого принципа [Баранов 1993: 44]. Так, в качестве всеобщего принципа Г. Паррэ выдвигает принцип Релевантности как «пирамидальную структуру стратегий опознания контекстов употребления языковых выражений». Он пишет: «Строго говоря, коммуникацию делает возможной разделяемое говорящими и понимающими стратегическое знание релевантности как нормы» (Цит. по [Баранов 1993: 44]). Сильной стороной этой концепции А. Г. Баранов считает идею множественности релевантных контекстов общения, связанных с понятием нормы, а также подчеркивание в «принципе Релевантности» динамической стороны текстовой деятельности [там же: 44-45]. О. В. Ташкинова анализирует ситуации, когда полностью кооперативные действия собеседников приводят к коммуникативному дискомфорту, и ситуации, в которых говорящий не стремится добиться полного осознания слушающим того, что он хотел сказать, и не рассматривает ситуацию как коммуникативно ущербную. Поэтому «Принцип кооперации» для нее не есть «руководство по эксплуатации». Она рассматривает его как некий инструмент описания коммуникативных ситуаций и при таком его понимании считает необходимым выделять «максиму интерпретируемости» как взгляд на ситуацию «снаружи», в отличие от принципа Грайса, отражающего взгляд «изнутри» коммуникативной системы [Ташкинова 2003: 112113]. Хотя о выделении подобного принципа еще раньше говорила Д. Франк: «Принцип Кооперации – фундаментальный фактор, регулирующий процессы интерпретации текста слушающим и прогнозирования этой интерпретации говорящим, – обладает статусом априорного, но способного к изменению обоюдного допущения слушающего и говорящего, что также может быть названо – с интерпретационной точки зрения – Принципом Оптимальной Интерпретации» [Франк 1986: 371]. Р. Лакофф обратила внимание на этический аспект процесса сотрудничества говорящего и адресата с целью успешного общения: говорящий должен учитывать воздействие своей речи на слушающего, а для этого ему необходимо соблюдать три принципа / правила 51
вежливости: «не навязывайся» (не выражай категорично свое мнение), «выслушай собеседника» и «будь дружелюбен». Эти принципы отражают этику речевого общения (по [Михальская 1996а: 95-97]). Дж. Лич выделяет правила текстовой риторики и правила межличностной риторики, что коррелирует с современным пониманием речевой нормы как нормы текста и как лингвопрагматической нормы. «Различие между ними он видит в следующем: на межличностном уровне происходит формирование иллокутивной силы высказывания и задается понятийный концепт, который в дальнейшем кодируется, т.е. переводится в звуковую и письменную форму, по правилам текстовой риторики» (по [Шилова 1998: 47]). Основными правилами межличностной риторики он считает Принцип Кооперации и Принцип Вежливости, а правилами текстовой риторики – Принцип Обрабатываемости, Принцип Ясности, Принцип Экономии и Принцип Экспрессивности. Дж. Лич утверждает, что могут быть выделены и другие правила межличностной риторики, в частности, Принцип Иронии, который он определяет как эксплуатацию (формальное нарушение или соблюдение) Принципа Вежливости. Ирония возникает в ситуации преувеличенной (излишней) вежливости, а также при нарушении одной из максим Принципа Кооперации с целью соблюдения Принципа Вежливости. Тем самым принцип иронии «паразитирует» на Принципах Кооперации и Вежливости (по [Шилова 1998: 57-58]). Таким образом, Дж. Лич выделяет семь принципов. Однако если учесть максимы, в которых реализуется Принцип вежливости, то их число увеличивается до тринадцати. Это следующие максимы: максима такта (Соблюдай интересы другого! Не нарушай границ его личной сферы!), максима великодушия (Не затрудняй других!), максима одобрения (Не хули других!), максима скромности (Отстраняй от себя похвалы!), максима согласия (Избегай возражений!), максима симпатии (Высказывай благожелательность!) (изложение максим по: [Формановская 2002: 53-55; Арутюнова, Падучева 1985: 27]). По мнению А. Г. Баранова, максимальная эффективность «принципа Вежливости» проявляется в межличностном общении и падает с возрастанием психологического и пространственновременного разрыва между автором и реципиентом [Баранов 1993: 45]. Если Г. П. Грайс и Г. Паррэ решают проблему конвенций и правил текстовой деятельности в монопринципном ключе, то в полипринципном направлении, как считает исследователь, она развивает52
ся в работах Дж. Лича и Дж. Серля, который полагает, что специфика художественного текста определяется прежде всего интенцией автора, и выдвигает вертикальные правила и горизонтальные конвенции. Суть вертикальных правил заключается в обязательстве автора высказывания быть правдивым и искренним (здесь прослеживается аналогия с максимой качества Г. Грайса). Горизонтальные конвенции являются частными и позволяют автору художественного текста использовать слова в их буквальном значении без принятия на себя обязательства правдивости и искренности (по [Баранов 1993: 45]. Анализируя концепцию Дж. Серля, А. Г. Баранов пишет: «…В отличие от Дж. Серля мы считаем, что частные правила не только не отменяют общих, но, наоборот, основываются и вытекают из них и не освобождают автора от принципов текстовой деятельности» [там же]. М о н о п р и н ц и п н о й является концепция К. А. Долинина. Он пишет о принципе коммуникативности, который реализуется в следующих более частных принципах: 1) принцип осмысленности («каждое завершенное высказывание должно иметь денотат и десигнат, причем как адресату, так и самому адресанту должно быть ясно, о чем и что именно в нем говорится»); 2) принцип целенаправленности («каждое высказывание, равно как и организованная последовательность высказываний, должно преследовать какую-то, пусть даже неосознанную, цель»); 3) принцип ситуативности («каждое высказывание (последовательность высказываний) должно быть так или иначе связано с ситуацией общения»); 4) принцип связности («каждое высказывание, входящее в более крупную речевую единицу (и, в частности, в текст), должно быть связано по смыслу с целым и, как правило, с другими высказываниями, входящими в это же образование»); 5) принцип правдоподобия («содержание речи должно соответствовать присущему данной культуре представлению о том, что бывает и чего не бывает в мире») [Долинин 1985: 42-43]. В монопринципном ключе решают проблему классификации принципов общения те исследователи, которые пытаются определить некий общий принцип / закон эффективной коммуникации, который охватывал бы все предложенные прагматические принципы. Так, С. В. Шилова полагает, что общим прагматическим принципом может служить Принцип Разумного Эгоизма. «Этот принцип, – пишет она, – отражает заботу об успехе речевого общения и своевременное устранение всего, что может помешать взаимному понима53
нию коммуникантов. Если какие-то моменты с точки зрения коммуниканта ему не выгодны, то они должны быть своевременно выявлены, так как недовольство одного из коммуникантов не выгодно его собеседнику, поскольку ставит под угрозу взаимопонимание и оптимальное протекание диалога» [Шилова 1998: 46]. М. В. Кискина пишет, что во главе списка максим «более реалистичным» является размещение максимы взаимодействия, поскольку максима сотрудничества не отражает, в частности, такой процесс, как речевая агрессия [Кискина 2006: 130] (однако по своей сути максима сотрудничества и не должна его отражать). Н. Ю. Фанян полагает, что в Принципах Кооперации осталась в стороне основная гипермаксима, которую можно сформулировать так: «Следуй (те) постулатам кооперации и считай (те), что коммуникация состоялась» [Фанян 2000: 326]. Думаем, что эта гипермаксима может быть уточнена следующим образом: «Не допускайте в речи прагматически немотивированного отклонения от коммуникативных постулатов». Это уточнение необходимо, поскольку на основе отклонения от постулата строятся некоторые речевые приемы, что было, кстати, подмечено самим Грайсом: «Примеры эксплуатации постулата, то есть примеры, когда говорящий нарушает постулат с целью порождения коммуникативной импликатуры; это своего рода фигура речи» [Грайс 1985: 229]. На п о л и п р и н ц и п н о м подходе основаны концепции Л. А. Азнабаевой, В. З. Демьянкова, И. А. Стернина, О. А. Васильевой и других исследователей. Л. А. Азнабаева базовыми принципами считает «Принцип Экспликации Отношения» и «Принцип Антиципации». Первый из них реализуется в следующих максимах: максиме позитивного отношения, максиме снижения негативной реакции, максиме взаимности («отвечай добром на добро»), максиме психологической поддержки говорящего (экспликация понимания проблем говорящего, выражение сочувствия, стремление утешить), максиме скромности (преуменьшение адресатом своих качеств или заслуг) и максиме экспликации эмоциональной реакции [Азнабаева 1999: 96-160]. «Принцип Антиципации» основан на умении говорящего извлекать из памяти сценарии событий или ритуала, помогающие ему «проецировать завершающее звено в последовательности сообщения» [там же: 195]. По мнению В. З. Демьянкова, в компетенции носителей языка принципы откладываются как неписаные конвенции, относящиеся к 54
фоновым требованиям коммуникации. В конвенциях общения сосредоточено несколько принципов: принцип выразимости (все, что может иметься в виду, можно адекватно выразить)34; принцип правдивости и доверия (действия говорящего должны соответствовать условиям истинности, правдивости и уместности); принцип уточнения выражения в контексте; принцип потенциальной выявимости оснований, доводов для высказывания; принцип оптимальности (говорящий стремится минимизировать сложность поверхностной структуры высказывания и максимизировать объем информации); принцип договоренности о новом и старом, задающий тема-рематическую структуру высказывания (по кн. [Формановская 2002: 56]). Таким образом, к «Принципу Кооперации» Грайса и социально-этическим принципам В. З. Демьянков добавляет еще шесть принципов. Обратим внимание, что не все формулировки выделенных им принципов носят предписывающий характер. И. А. Стернин рассматривает три принципа бесконфликтного общения: принцип терпимости к собеседнику, принцип благоприятной самоподачи и принцип позитива (минимизации негативной информации) [Стернин 2001: 148-152]. О. А. Васильева выделяет шесть максим речевого поведения, каждая из которых реализуется в двух субмаксимах (итого: двенадцать субмаксим): 1. Максима Такта (сведение к минимуму ущерба для адресата); 2. Максима Благородства (максимизация пользы для адресата)35; 3. Максима Одобрения, включающая субмаксимы: а) негативную (минимизация неодобрения адресата) и б) позитивную (преувеличение одобрения адресата);
34
Ср. понимание принципа выразимости у Дж. Серля: для каждого коммуникативного намерения существует набор языковых единиц, являющихся точной формулировкой данного намерения (по [Ромашко 1984: 139]). 35 Очевидно, здесь лучше говорить об альтруизме. Ср.: альтруизм – «…готовность бескорыстно действовать на пользу другим, не считаясь со своими интересами» [Ожегов, Шведова 2003: 23]; благородство (в одном из значений) – «высокая нравственность, самоотверженность» [там же: 50]. 55
4. Максима Скромности, включающая субмаксимы: а) негативную (минимизация похвалы в свой адрес) и б) позитивную (самокритика); 5. Максима Согласия, также включающая две субмаксимы: а) негативную (минимизация несогласия с адресатом) и б) позитивную (преувеличение согласия с адресатом); 6. Максима Симпатии, включающая субмаксимы: а) негативную – минимизация антипатии между адресатом и адресантом и б) позитивную (выражение симпатии между адресатом и адресантом) [Васильева 2000: 6-7]. Формулировки «негативная максима» и «позитивная максима» вызывают нежелательные ассоциации: поскольку постулаты реализуют нормы общения, складывается впечатление о существовании негативной нормы, которой нужно придерживаться. В одном из учебных пособий «Русский язык и культура речи» важными организационными принципами речевой коммуникации названы принцип последовательности, который предполагает «релевантность (смысловое соответствие) ответной реакции, т.е. ожидание реплики соответствующего типа», и принцип предпочитаемой структуры, характеризующий «особенности речевых фрагментов с подтверждающими и отклоняющими ответными репликами» [Введенская и др. 2000: 173]. В соответствии с последним принципом, согласие обычно выражается без промедления, предельно лаконично и ясно, а «несогласие формулируют пространно, оправдываясь доводами» [там же]. Эффективность действия второго постулата в некоторых ситуациях у нас вызывает сомнения. В указанном пособии читаем, что установлению партнерских отношений способствует и соблюдение психологических принципов общения: принципа равной безопасности («непричинение психологического или иного ущерба партнеру в информационном объеме» [там же: 178]), принципа децентрической направленности36 («непричинение ущерба делу, ради которого стороны вступили во взаимодействие») и принципа адекватности того, что воспринято, тому, что сказано («непричинение ущерба сказанному путем намеренного искажения смысла» [там же: 179]). Таким образом, кроме принципов 36
Полагаем, что название принципа («принцип децентрической направленности») не отражает его сути. 56
Г. П. Грайса и Дж. Лича, авторы пособия рассматривают пять принципов эффективного общения. Помимо названных принципов, исследователи рассматривают «принципы хорошего слушания»: «Старайтесь сконцентрироваться на человеке, который говорит с вами; обращайте внимание не только на слова, но и на звук голоса, мимику, жесты, позу и т.д.»; «Покажите говорящему, что вы его понимаете»; «Не давайте оценок, не давайте советов» [там же: 183-184]. М. Р. Савова в учебнике «Русский язык и культура речи» главными коммуникативными нормами называет «такие нормы, которые можно назвать принципами: это принцип кооперации, принцип целесообразности, принцип гармоничности общения, принцип структурирования общения» [Ипполитова и др. 2004: 169]. Л. Е. Тумина считает, что принципы и правила общения складываются из взаимосвязанных и взаимозависимых постулатов: «1. Ориентировка на собеседника (в его мире знаний, социальных и психологических ролях, его мнении, состоянии и т.д.). 2. Доверие к собеседнику (к его авторитету и статусу, к его к о м м у н и к а т и в н ы м н а м е р е н и я м). 3. Внимание к собеседнику . 4. Учет резонанса в общении (на согласие, как правило, получаем согласие, и наоборот). 5. Соблюдение вежливости и исполнение правил р е ч ев о г о э т и к е т а. 6. Оптимальное воздействие на собеседника. 7. Обоснованность речевого поведения (с точки зрения составляющих коммуникативной ситуации). 8. Возможность выбора речевого поведения и смены стратегий и тактик по ходу общения. 9. Наличие в компетенции общающихся представлений о вариантах речевого поведения. 10. Наличие представления о гибкости моделей речевого поведения (переключения стиля, кода, темы, тактик и т.д.). 11. Владение вариативностью языковых / речевых средств. 12. Представление о стандартизации, стереотипизации речевого поведения и владение стереотипами стилей, жанров, речевых средств. 13. Представление о сценарности общения: схемы, сценарии, ф р е й м ы в ситуациях и владение их использованием» [ЭК 2005: 512]. Думаем, что многие перечисленные пункты (см. пункты 6, 8-13) являются скорее условиями, нежели постулатами эффективного общения. В заключение кратко обозначим концепцию А. Г. Баранова (а не его критику других взглядов, о которой речь уже шла выше), существенно отличающуюся от всех описанных в этом параграфе теорий. 57
А. Г. Баранов придерживается полипринципного подхода, ориентированного, как он пишет, «на функционально-прагматическое изучение текстов в динамике». Универсальная прагматика, по его мнению, должна включать общие правила, конвенции («принцип Сотрудничества»; «принцип Взаимодействия» как «стремление субъектов через текстовую деятельность к «согласованию» их частично «рассогласованных» когнитивных систем») и частные постулаты, отражающие «функционально-прагматическое членение текстовой деятельности и текстового континуума в соответствии с принципом гетерогенности культуры и мышления» [Баранов 1993: 46]. Частными являются «принцип Конструктивизма», который эксплицитно сформулировал Т. ван Дейк и о котором писал в более широком плане З. Шмидт, и «принцип Функционализма» [там же: 47]. «Принцип Конструктивизма, – пишет А. Г. Баранов, – ориентируется на автора текста как "конструктора" возможных миров, а задача реципиента "реконструировать" этот возможный мир, опираясь на лингвистическую информацию и собственную "картину мира"» [там же]. Тем самым выделенный им принцип Конструктивизма связан с принципом правдоподобия, о котором писал К. А. Долинин (см. выше). Это наблюдение подтверждают и такие мысли А. Г. Баранова: «…В общем плане правило "качество", прошедшее через фильтр принципа Функционализма, предстает в виде статусов достоверности текстотипов или уровней правдоподобия. Соответственно правило "качество" в конструировании возможного мира художественного текста проявляется в его соотнесении с действительным миром автора как художественная правда. При этом могут наблюдаться различные дистанции между миром текста и действительным миром» [там же: 48]. Суть принципа Функционализма А. Г. Баранов видит в том, что «коммуникативно-познавательный процесс неоднороден ввиду объективно существующей гетерогенности сфер общения (и мышления, и культуры), а это обусловливает существование коммунально принятой нормативности видов текстовой деятельности». Под его влиянием в разных видах текстовой деятельности принципы Взаимодействия, Конструктивизма и Вежливости проявляют себя по-разному, в чем и заключается «интенциональная основа процессов "согласования" когнитивных систем текстовой деятельности» [там же: 47]. Тем самым А. Г. Баранов отмечает тесную взаимосвязь принципов обще58
ния и норм текстовой деятельности, что очень важно при осмыслении феномена речевой нормы. Из указанных принципов, по мнению исследователя, вытекают два вида правил: правила для автора (постулаты) и правила для реципиента (презумпции)37. В результате прохождения постулатов и презумпций через принцип Функционализма и другие дополнительные принципы каждый вид текстовой деятельности имеет свои проявления этих постулатов / презумпций. Так, наличие видимых противоречий правилу «манера» в литературной коммуникации – «явление поверхностное, ибо автор руководствуется не постулатом истины как таковым, а его функционально превращенной формой – "какесли бы" достоверностью (художественной правдой). И "темные" места в художественном тексте требуют от реципиента Взаимодействия в интерпретации художественного замысла, следуя презумпциям осмысленности и непротиворечивости» [там же: 49]. К общим правилам и презумпциям субъектов текстовой деятельности А. Г. Баранов относит также правила выбора и использования языковых выражений, – «правила дифференциации текстовой деятельности в ее языковом аспекте». Они, по его мнению, означают: 1) «следование правилам системности языка: синтаксическим, семантическим, прагматическим. Это правила семантического согласования и когерентности идентифицируемых значений языковых выражений в тексте…»; 2) «следование правилам использования языка (прагматическим, семантическим, синтаксическим), определяющим связь языка, мира, сознания индивида, – правила экзистенциональной, ситуативной (социологической), акциональной и психологической контекстуализации» [там же]. 37
О возможности выделения «Принципа Говорящего» и «Принципа Слушающего» см. также в [Ташкинова 2003: 111-116], где они формулируются следующим образом: «Будь готов быть неверно понятым» (для говорящего) и «Не абсолютизируй собственного понимания» (для слушающего). Что касается термина презумпция, то в современной лингвистике он употребляется в качестве синонима конвенциональной импликатуры (термин Г. П. Грайса, обозначающего импликатуры, связанные с тем или иным словом или синтаксической конструкцией). На дублетность этих терминов указывает Е. В. Падучева: «…Понятие конвенциональной импликатуры – это, по-видимому, всего лишь новый термин для обозначения того круга явлений, который соответствует понятию презумпции…» [Падучева 2002: 44]. 59
Отсюда можно заключить, что у А. Г. Баранова представлен широкий подход к трактовке принципов коммуникации, которые включают в себя соблюдение, наряду с другими нормами, нормы собственно языковой (литературной). Такого же осмысления норм речевого поведения придерживается В. Н. Самгар: нормы речевого поведения он считает более широким понятием, чем «нормы литературного языка», которые составляют «лишь часть объема первых» [Самгар 2003: 61]. Ненарушение узуса («привычного употребления имен по отношению к тем или иным референтам, сочетаемости слов») рассматривает как одно из правил речевого поведения Т. В. Шмелева [Шмелева 2006: 20] «Понимание языка как деятельности предполагает подход к языку как явлению социального уровня, т.е. языковая коммуникация нормируется не только самой системой языка, но и структурой практической деятельности, в которой осуществляется общение, и этическими нормами», – пишет Л. П. Рыжова (курсив наш. – Г. К.) [Рыжова 1987: 55]. Поэтому, как видим, к нормам речевого поведения относят нормы языковые, собственно речевые (текстовые), этические и некоторые другие. Представив краткий обзор различных классификаций принципов общения, обратим внимание на неоднотипный и не всегда удачный характер формулировок принципов общения, что связано с различным осмыслением понятия «принцип общения»: одни исследователи говорят о принципах как неких закономерностях речевого поведения или возможных его особенностях, другие – как о предписаниях, соблюдение которых способствует эффективности речи. Ср.: «…Не говори того, что считаешь ложным» и «Все, что может иметься в виду, можно адекватно выразить», «Учет резонанса в общении (на согласие, как правило, получаем согласие, и наоборот)». Кроме того, складывается ситуация неупорядоченности в терминологии и несогласованности выделения тех постулатов общения, которые напрямую коррелируют между собой или дублируют друг друга по содержанию. Ср., например, первый постулат качества Г. П. Грайса, дублирующий его «принцип правдивости и доверия» В. З. Демьянкова и коррелирующий с ним «принцип правдоподобия» К. А. Долинина; постулат способа Г. П. Грайса, в который содержательно включается «принцип уточнения выражения в контексте» того же В. З. Демьянкова. 60
Как и в случае с постулатами (принципами), общепринятой классификации правил речевого общения нет. Отдельного исследования заслуживает вопрос о корреляции постулатов и правил с некоторыми паремиями38. Однако на этих вопросах в данной работе мы не останавливаемся. Есть исследователи, которые в целом отвергают успешность теории коммуникации через описание постулатов общения. Так, С. А. Ромашко пишет: «Попытка обосновать процесс коммуникации с помощью "постулатов" ("принципов", maximеs) предполагает, что каждый шаг в ходе коммуникативного взаимодействия является результатом сознательно принятого решения. Значительная часть речевых действий осуществляется бессознательно, причем сознательное преследование какой-либо цели в разговоре не означает, что именно эта осознаваемая цель и есть объективная основа разговора как такового. Человек, в принципе, способен к рефлексии относительно своих речевых действий, и именно на этой способности базируется деятельность языковедов. Однако отождествление сознания носителя языка, реконструкция сознания говорящего по образцу сознания лингвиста представляют собой тупиковые пути» [Ромашко 1984: 142]. Думаем, что осмыслению значимости принципов и постулатов речевого общения может способствовать тщательное изучение различного рода РП, так как в некоторых случаях «…обнаружить норму становится возможным лишь благодаря фиксации неких отклонений, девиаций. В этом плане информативной, семантически нагруженной выступает именно аномалия как маркированный коррелят нормы» [Радбиль 2005: 53]39. 38
Опыт сопоставления постулатов Г. П. Грайса с русскими паремиями представлен, напр., в публикации А. П. Сковородникова [Сковородников 1997: 34-35]. Об отражении риторических правил в фольклоре см. также [Рождественский 1997: 336-349; Сперанская 1999: 16-22]. Относительно категории уместности Е. С. Тихонова сделала такое наблюдение: «Если фольклор содержит набор запрещений, где уместность выделяется через отрицание, то риторики дают систему положительных рекомендаций для создания уместных суждений» [Тихонова 1985: 75]. 39 Такое же наблюдение у Я. Мукаржовского: «…всякая норма позволяет ощутить свое действие, а, следовательно, и существование именно тогда, когда она нарушается» [Мукаржовский 1994: 168]. 61
Поскольку принципы и постулаты общения, названные выше, коррелируют между собой, их можно объединить в группы, о чем пойдет речь далее.
3.3. О взаимосвязи текстовых и лингвопрагматических норм О взаимосвязи текстовых и лингвопрагматических норм можно говорить в двух аспектах: в аспекте их корреляции с коммуникативными качествами хорошей литературной речи и в аспекте теории системности речевого акта. Прежде чем рассматривать каждый из этих аспектов, сделаем некоторые замечания об относительном противопоставлении названных типов норм. Постулаты общения анализируются главным образом применительно к диалогическим формам общения40. Однако монолог представляет собой «часть диалога, одну из его реплик. Рассмотрение речи как диалога в широком смысле слова составляет один из постулатов риторики» [Тихонова 1985: 76]. Поэтому противопоставление текстовой нормы норме лингвопрагматической носит относительный характер, поскольку текст является не только единицей общения (формой коммуникации), но и результатом речевого поведения, или, что, пожалуй, то же самое – не только процессом речепроизводства (т.е. дискурсом в одной из трактовок данного понятия), но и его конечным продуктом, имеющим определенную законченную форму. И в том и в другом случае имеется в виду язык в его функционировании41. То же можно сказать и о термине «произведение речи», который, будучи используемым в самом общем (широком) смысле, по мнению О. С. Ахмановой, «одинаково применим как к литературно-художественному произведению, так и к самому тривиальному единичному высказыванию и к реестру речевых актов, при40
Это нашло отражение в выделении двух типов коммуникации по степени кооперированности: «а) "конверсация" (разговор) – кооперированная двусторонняя коммуникация, и б) некооперированная связь (например, одностороннее общение)» [Демьянков 1984: 210]. 41 При использовании любого из терминов (текст или дискурс) во всех случаях говорится об изучении языка в его живом употреблении, функционировании [Слюсарева 1981: 61]. 62
надлежащих любому человеку, совершенно независимо от его профессии, места, занимаемого им в данной социальной иерархии или вообще в данном человеческом коллективе [Ахманова 1966: 162]42. Термин «текст» в последнее время все чаще используется для обозначения любого завершенного с точки зрения замысла словесного произведения, как монологического, так и диалогического характера43. А. А. Леонтьев пишет о том, что осмысленный диалог, имеющий определенную цель «…есть такой же целостный текст, как монолог. Но при одном условии: если он действительно является целостным текстом, т.е. если он имеет содержательную организацию, функцию, направленную на достижение определенной цели, решение определенной внеречевой задачи» [Леонтьев 1979: 29]. «…Текст с точки зрения самых общих определений можно и нужно рассматривать как некий конкретизированный фрагмент речи, причем и со стороны речевой деятельности, и со стороны речевого общения», – отмечает Т. Е. Корчагина [Корчагина 1988: 159]. При этом «объем текста как единичного проявления речи – речевой деятельности и речевого общения – зависит от целей общения, определяемых экстралингвистическими факторами» [там же: 158]. Он может составлять даже однословное высказывание44, включенное в 42
О применимости термина речевое произведение по отношению и к диалогу, и к монологу см. также [Гаузенблаз 1978: 62]. 43 См., напр.: [Дресслер 1978: 130; Валгина 2004: 170]. 44 Текст обычно рассматривают как явление, соотносимое с тем или иным жанром. Что касается объявлений, вывесок, надписей (например, «Вход»), то «почему ж не говорить о них как о жанрах (хотя бы условно?)», – спрашивает А. И. Горшков. Конечно, при филологическом подходе здесь «затруднительно говорить об упорядоченности, особенно о композиционной завершенности сообщения, состоящего из одного слова, хотя в науке и высказывалась мысль, что слово – это "концентрированное предложение". А при семиотическом подходе и вне такого понимания слово может рассматриваться как "семантически организованная последовательность знаков", то есть текст». Тем не менее сообщениям «Продается велосипед» и «Вход» «…присущи такие признаки, как выраженность, отграниченность, информативность, воспроизводимость, что и позволяет рассматривать их как тексты» [Горшков 2001: 63]. Признает существование однословных, однофразовых текстов и В. Г. Костомаров. Он пишет: «…Обязательные признаки семантически организованной последовательности знаков, смысловой завершенности, коммуникативной значимости можно узреть в над63
конкретную ситуацию коммуникативного взаимодействия, отражающее эту ситуацию в целом и включающее в себя все необходимые компоненты коммуникативного акта как потенциально возможные [Голод, Шахнарович 1985: 39-40]. Отсюда иное, нежели, скажем, у И. Р. Гальперина, осмысление феномена текста в работах некоторых современных языковедов45. писях вроде "Посторонним вход воспрещен" или "По газонам не ходить!", даже содержащих один элемент – "Вход", "М" как обозначение станции метрополитена» [Костомаров 2005: 37-38]. Поэтому текстом исследователь называет «…выраженное в любой форме, упорядоченное и завершенное словесное целое, заключающее в себе определенное содержание, соотносимое с одной из сфер функционирования языка» [там же: 41]. Под завершенностью текста имеют в виду реализацию с его помощью того или иного замысла [Матвеева 1991: 24]. Иная точка зрения у В. П. Москвина. Он считает, что слово (им рассматриваются слова типа: Здравствуй!, Прощай!, До свидания!) не может приобретать статус текста: во-первых, «слово-высказывание» вряд ли может стать произведением словесного искусства, во-вторых, этикетные «слова-высказывания» не являются самостоятельными речевыми актами [Москвин 2005: 70-71], с чем мы не можем согласиться. М. М. Бахтин вполне обоснованно писал о том, что если слово адресовано, то перед нами законченное высказывание, поэтому существуют речевые жанры, состоящие из одного слова, например, оценочные речевые жанры, выражающие похвалу, одобрение, восхищение, порицание, брань: «Отлично!», «Молодец!», «Прелесть!», «Позор!», «Гадость!», «Болван!» и т.п. [Бахтин 1979: 280, 265]. 45 И. Р. Гальперин определяет текст следующим образом: «Текст – это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка), ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» [Гальперин 2004: 18]. Это определение неоднократно подвергалось критике. Так, Е. В. Сидоров пишет о том, что если оставить в стороне указание на письменную форму и на наличие названия, то все остальные признаки текста – лишь частные проявления коммуникативности речевых знаков и их последовательностей. Он предлагает такое определение текста: «Текст – это характеризуемая коммуникативностью система речевых знаков и знаковых последовательностей, воплощающая сопряженную модель коммуникативных деятельностей отправителя и адресата сообщения» [Сидоров 1987в: 38-39]. Это определение, отмечает автор, «покры64
Возможность осмысления, анализа текста в двух аспектах (с точки зрения речевой деятельности и с точки зрения ее продукта) позволяет предположить, что между разными трактовками норм речи можно найти корреляции. Об этом говорит рассмотрение исследователями среди постулатов общения так называемых «принципов текстовой деятельности». Более того, очевидно, можно выделить такие речевые нормы, которые одинаково применимы как к монологу, так и к диалогу, в том числе к отдельной реплике. В учебнике «Русский язык и культура речи» под редакцией Н. А. Ипполитовой отмечается, что в культуре речи каждый вид норм предполагает свою шкалу для оценки общения в целом и конкретных его сторон (особенно речи) в частности и что «речевые нормы оцениваются по шкале: "логично / нелогично, точно / неточно, уместно / неуместно, доступно / недоступно, разнообразно / однообразно, выразительно / невыразительно и т.д.» [Ипполитова и др. 2004: 129]. Эта шкала коррелирует как с постулатами общения, так и с коммуникативными качествами хорошей литературной речи46, учевает» другие признаки, являющиеся частными: связность, завершенность («разве сверхфразовое единство или высказывание-предложение лишены этого признака?» [там же: 41]), литературная обработанность («…литературная обработка текста есть один из аспектов коммуникативной деятельности отправителя сообщения и один из аспектов образа текста, имеющегося у адресата и входящего в его деятельность» [там же]), соответствие типу документа (покрывается понятием сопряженного моделирования и понятием коммуникативности текста), связь единиц (покрывается понятием системы речевых знаков, так как наличие связей между компонентами – один из обязательных признаков системности), целенаправленность и прагматическая установка (отдельный момент коммуникативного взаимодействия). В. Г. Костомаров в формулировке текста И. Р. Гальперина считает лишним указание на то, что текст объединяют не только лексические, но и грамматические связи. Как и Е. В. Сидоров, он пишет о неправомерности ограничения текста только письменной формой существования и его размером [Костомаров 2005: 37]. 46 В. П. Москвин считает синонимичными термины «(коммуникативные) качества речи», «коммуникативные нормы речи» и «стилевые нормы» [Москвин 2006а: 131]. Хотя синонимичность термина «стилевые нормы» первым двум вышеназванным у нас вызывает сомнение. Коммуникативное качество – это свойство речи / текста (см.: [ЭК 2005: 360; КРР 2003: 256] и др.); признак речи, определяющий ее достоинство (отсюда – термин «качества хорошей речи», напр., в [Матвеева 2003: 107]) и являющийся следст65
ние о которых, по наблюдениям Б. Н. Головина, восходит к трудам древних римлян: «Уже римляне выработали целую систему понятий, мнений и рекомендаций, оценивающих качества хорошей речи. Были замечены и описаны (правда, не строго) сами эти качества, и среди них такие, как ясность, чистота, уместность и др.» [Головин 1980: 23]. На взаимосвязь постулатов Г. П. Грайса с риторическими предписаниями в процессе сопоставления общих концептов прагматики и риторики обратили внимание Н. А. Безменова и В. И. Герасимов. Они пишут: «Интересно, что теория речевого имплицирования, разработанная Х. П. Грайсом и составляющая одну из центральных областей прагмалингвистики, может с достаточными на то основаниями рассматриваться как приложение правил классической риторики к современным формам речевой коммуникации. Сформулированные Грайсом четыре коммуникативных принципа, подчиненные общему принципу коммуникативного сотрудничества , сведены к трем измерениям классической риторики: inventio, dispositio, elocutio» [Безменова, Герасимов 1984: 10-11]. Первое и третье правила Грайса (говори не больше, чем требуется; будь релевантен по отношению к аргументации) соответствуют, по мнению исследователей, предписаниям уместности (prépon) и функциональности (téleon), нашедшим отражение во второй книге «Риторика» Аристотеля. Четвертое же правило (стремись к ясности выражения) совпадает с требованием ясности и прозрачности (saphéneis), которое выдвигалось всеми античными риториками. «"Чрезвычайная ясность" и "максимальная краткость" рассматривались в качестве риторической нормы Цицероном» [там же: 11]. Такое же наблюдение представлено в работе Д. Франк «Семь грехов прагматики…». Она пишет: «Сходство между грайсовскими Принципом Кооперации и Коммуникативными Максимами, с одной стороны, и риторическими virtutes elocutions [‘достоинства слога’], с другой, поражает исторически мыслящего исследователя. Каждое из правил-достоинств (aprum [‘соразмерность, упорядоченность, адекватность’] как наиболее общая норма ситуационной и контекстной вием соблюдения той или иной нормы (при возможном прагматически мотивированном отклонении от какой-либо другой нормы). Качество, как писал Т. Г. Хазагеров, «мотивирует» норму [Хазагеров 2003: 57]. 66
адекватности; latinitas [‘чистая латынь’] как языковая правильность; perspicuitas [‘прозрачность, очевидность’] как ясность или понятность для слушающего; ornatus [‘украшательство’] как выражение, приятное для слушающего, способное его развлечь; и другие, более специфические достоинства) может быть нарушено – по крайней мере, на первый взгляд, – но только если вступают в действие remedia [‘средства’], или цели и нормы более высокого уровня, которые дают на это необходимое "разрешение"» [Франк 1986: 371]. Обращают также внимание на то, что «максимы Грайса» восходят к правилам речевого поведения оратора, сформулированным еще Аристотелем в «Риторике». Аристотель писал о правдивости, уместности, целесообразности, краткости и ясности речи [Михальская 1998а: 348]. Таким образом, исследователи уже обращали внимание на существование взаимосвязи между принципами, постулатами Г. П. Грайса и риторическими предписаниями / коммуникативными качествами хорошей речи, но подробно этот вопрос ими не рассматривался. Считаем, что выделяемые лингвистами принципы и постулаты эффективного речевого общения условно можно объединить в группы и соотнести с типами норм, коммуникативными качествами хорошей речи и некоторыми текстовыми категориями47. Прежде чем мы назовем эти группы, необходимо сказать о соотношении речевой нормы (текстовой и лингвопрагматической) и нормы коммуникативной. Понятие коммуникативной нормы48, введенное А. Едличкой, связано не с системой языка, а с процессом коммуникации, с иссле-
47
Текстовую категорию определяют как «типологический признак текста, выделяемый на деятельностно-семантическом основании» и представляющий собой в плане выражения «композицию отобранных из языкового фонда и собственно речевых средств» [Матвеева 1991:14], как качества текста (функциональные, системные, языковые) [Сидоров 1987б: 48]. 48 Н. С. Болотнова оперирует также термином «коммуникативные универсалии», под которым понимает нормы и правила, регулирующие общение на лингвистической основе в разных сферах коммуникации в рамках одной языковой системы. Применительно к художественному тексту это правила, принципы словесно-художественного структурирования текста, ориентированного на гармоническое общение автора и адресата. Если «максимы» П. Грайса, по мнению Н. С. Болотновой, имеют экстралингвистиче67
дованием функционального аспекта культуры речи, с функциональными разновидностями общения [Скворцов 1996: 53, 63]. Существуют различные формулировки понятия коммуникативной (коммуникативно-прагматической) нормы, напр.: – коммуникативно-прагматические нормы (нормы речевых высказываний / текстов) – это «…правила отбора языковых средств и построения речевых высказываний (текстов) в различных типовых ситуациях общения с разной коммуникативной интенцией в определенном обществе в данный исторический период его развития» [Анисимова 1987: 3; Анисимова 1988: 65]; – коммуникативно-прагматическая норма – норма, которая выступает в качестве «квалификационной детерминанты стилистического значения в определенном контексте» [Зиновьева 1988: 64]; – коммуникативная норма – соответствие правилам ведения разговора (например, максимам Грайса) и правилам построения текста того или иного типа [Маслова 1992: 366]; – «в самом общем виде понятие коммуникативной нормы можно представить как принятые в обществе правила речевого общения, определяющие типы речевого поведения коммуникантов в разных ситуациях» [Захарова 2001: 177]; – «коммуникативные нормы – нормы выбора видов, форм, уровней и средств общения», включая принципы общения; они «…управляют речевыми и языковыми нормами и предполагают не только их соблюдение, но иногда и целесообразное осознанное отступление от этих норм…» [Ипполитова и др. 2004: 166]. Из приведенных цитат видно, что коммуникативная норма отождествляется с нормой текстовой и/или лингвопрагматической. Однако в качестве составляющих коммуникативной нормы исследователи выделяют не только нормы жанрово-ситуативные [Захарова 1999: 78] и – шире – стилистические [Гукасова 2000: 65; Виноградов 1996: 126], но и нормы использования невербальных средств [Ипполитова и др. 2004: 175; Анисимова 1988: 65 и др.]; языковые нормы «в чистом виде» и внелингвистические элементы (базовые знания о существующих и/или существовавших ранее культурных концептах данной языковой среды, о стандартных способах структуризации и категоризации понятийного пространства и т.п.) [Новикова 2006: 93]. скую ориентацию, то коммуникативные универсалии обладают лингвистической и экстралингвистической сущностью [Болотнова 1992: 76-78]. 68
В результате понятие коммуникативной нормы «довольно расплывчато» [там же: 94] и «…пока еще не существует цельной и полной концепции коммуникативного аспекта культуры речи» [Ширяев 1996: 26]. В качестве еще одного компонента коммуникативной нормы называют этикетные нормы (правила речевого этикета) и – шире – этические [Захарова 2001: 178; Виноградов 1996: 126]. Однако выделение этических (этико-речевых) норм в рамках коммуникативных норм не является бесспорным, так как прагматические постулаты речевого общения, составляющие, по мнению исследователей, основу коммуникативной нормы, «…тоже в значительной части имеют этический характер» [СЭС 2003: 366]. Поэтому существует противоположная точка зрения: не этические нормы входят в коммуникативные и подчиняются им, а «коммуникативные нормы "подчиняются" этическим: если эти нормы вступают в противоречие, то приоритет должен принадлежать этическим нормам…» [Ипполитова и др. 2004: 165]. В итоге признается взаимосвязь этических и коммуникативных норм и тот факт, что разделить их можно условно: «Этические нормы во многом определяют коммуникативные, поскольку в первую очередь регулируют моральную и содержательную стороны общения. Коммуникативные нормы обеспечивают и регулируют прежде всего сам процесс общения. В то же время этические нормы коммуникативно ориентированы»: они диктуют необходимость нести ответственность за слова и речевые поступки, а нарушения этических норм рождают неприятие, а значит, служат барьерами в общении. «В свою очередь, коммуникативные нормы этичны, потому что они регулируют процесс общения, предписывают достижение целей общения таким образом, чтобы в нем не нарушались этические нормы. В связи с этим, – пишет М. Р. Савова, – мы рассматриваем этические и коммуникативные нормы отдельно друг от друга и от других видов норм только для удобства их описания» [там же: 155-156]. Если коммуникативными нормами считать не только речевые нормы, но и нормы использования невербальных средств, то следует признать, что понятие коммуникативной нормы как нормы общения шире понятия нормы речевой. В рамках коммуникативной нормы (при ее широком понимании как нормы общения) можно выделить: 1) нормы вербального общения, или коммуникативноречевые нормы (нормы речи в их широком осмыслении (включая 69
собственно языковые нормы), или культурно-речевые нормы (термин А. П. Сковородникова), регулирующие использование языковых средств; 2) нормы невербального общения, связанные с использованием других знаковых систем49. Эти типы норм тесно связаны между собой, поскольку в процессе коммуникации человек может использовать и вербальные, и невербальные средства. Кроме того, «понятие речевого поведения обладает конкретизирующими свойствами, отсутствие которых характерно для понятий "речевая деятельность", "речевое общение"», это «визитная карточка человека в обществе, отражающая регулярное взаимодействие лингвистических и экстралингвистических факторов» [Винокур 1993: 29]. Отсюда использование термина «речевое поведение» в значении звучащей речи, сопровождающейся жестовомимическим и пространственным поведением [Михальская 1996а: 46]50. Коммуникация возможна и без использования языковых средств, только при помощи невербальных компонентов (ср. язык глухонемых, азбука Морзе и т.п.). В соответствии с идеей о необходимости разграничения языка и речи нормы вербального общения подразделяются на два типа: 1) собственно языковые нормы, соотносимые с языковыми единицами (их составом, сочетаемостью [КРР 2003: 367]); 2) речевые нормы (текстовые и речеповеденческие), уточнение содержания которых возможно на основе соотнесения коммуникативных качеств хорошей речи и принципов, постулатов речевого общения, которые не только дополняют, но и в значительной степени дублируют друг друга. Коммуникативная норма в целом отражена в «принципе коммуникативности» К. А. Долинина, предполагающем учет сферы общения, ситуации, и в частично дублирующем его «принципе 49
Наука, изучающая невербальную коммуникацию и, шире, невербальное поведение и взаимодействие людей, называется невербальной семиотикой [Крейдлин 2004: 6]. 50 С учетом этого можно сказать, что речевая деятельность и речевое поведение – понятия, не тождественные в современной лингвистике. Тем более те принципы и постулаты, которые говорящий должен соблюдать в процессе речевой деятельности, применимы и к невербальным компонентам коммуникации, однако этот вопрос не является разработанным. 70
Функционализма» А. Г. Баранова (учет в процессе коммуникации гетерогенности сфер общения, мышления и культуры). «Принцип коммуникативности» соотносится с выделяемой Е. В. Сидоровым коммуникативностью как ведущей категорией текста [Сидоров 1987в: 45]. Правильность речи в ее узком понимании (как соблюдение норм литературного языка)51 и качество понятийной точности, или точности словоупотребления (то есть употребления слов в полном соответствии с теми значениями, которые за ними закреплены в языке [Голуб, Розенталь 1997: 26]), наряду с «правилами системности языка» А. Г. Баранова, включаемыми им в «правила дифференциации текстовой деятельности в ее языковом аспекте» [Баранов 1993: 40], ориентированы на соблюдение собственно языковой нормы. Коммуникативное качество уместности52, которое Б. Н. Головин охарактеризовал как «качество функциональное» [Головин 1980: 237], направлено на соблюдение функционально-стилистической нормы и нормы ситуативной (ее можно определить как соответствие речи социальной роли, коммуникативному намерению, условию и обстановке, в которой происходит общение). На соблюдение этих норм ориентированы «принцип ситуативности» и «принцип целена-
51
Такое понимание правильности отражено в работе Б. Н. Головина «Основы культуры речи» [Головин 1980: 40]. Полагают также, что правильность проявляется в речевой грамотности как «умении грамматически и стилистически правильно писать и говорить» [Кузнецова 2001: 29]. 52 Под уместностью понимают такую организацию языковых средств, «...которая более всего подходит для ситуации высказывания, отвечает задачам и целям общения, содействует установлению контакта между говорящим (пишущим) и слушающим (читающим)» [Голуб, Розенталь 1997: 100]. Выделяют уместность стилевую, контекстуальную (уместность в речевом окружении), ситуативную и личностно-психологическую. Хотя границы между некоторыми видами уместности проводятся недостаточно четко. Так, определение ситуативной уместности как уместности не только в определенных ситуациях речи, но и в стиле произведения в целом [Головин 1980: 250] не позволяет ее четко отграничивать от стилевой уместности как целесообразного употребления «отдельного слова, оборота, конструкции или композиционно-речевой системы в целом» в том или ином функциональном стиле [там же: 237]. 71
правленности» К. А. Долинина («принцип целесообразности» у М. Р. Савовой). Качество информативности (информативной насыщенности [Голуб, Розенталь 1997: 5]) речи, относящееся к ее содержанию и предполагающее основательное знание предмета речи, а также необходимость новизны, актуальности, полноты фактического материала, соотносится с «категорией количества» Г. П. Грайса, «принципом оптимальности» В. З. Демьянкова, «информационной программой» как текстовой категорией53 и составляет содержание информационной54 (информационно-речевой) нормы. Качество логичности речи подразумевает соблюдение в речи законов правильного мышления (назовем это формальнологической нормой) и отражение законов бытия (обозначим как предметно-логическую норму). К принципам и постулатам, основанным на соблюдении в речи формально-логической нормы, можно отнести «принцип потенциальной выявимости оснований, доводов для высказывания» В. З. Демьянкова; один из постулатов «категории Качества» Г. П. Грайса («не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований»); «постулат релевантности» в осмыслении этого же исследователя («не отклоняйся от темы»), соотносимый с «принципом последовательности», т.е. релевантности ответной реакции; 53
Т. В. Матвеева пишет об информационной программе как текстовой категории. Выделяя три ее типа (рациональную программу, оценочную и прагматическую), она замечает: «…информационная программа как текстовая категория – слишком крупное понятие, чтобы оно могло стать рабочим инструментом изучения текста. Категории-программы имеют коммуникативно-отражательную природу, выделяются на собственно содержательно-деятельностном основании и характеризуются чрезвычайно сложной и многообразной языковой реализацией». И далее: «Функциональностилевое "распределение ролей" между программами дает лишь самое общее представление о специфике текстов в различных функциональных стилях…» [Матвеева 1991: 50]. По мнению Н. С. Болотновой, информативность текста соотносится с такими его признаками, как смысловая завершенность, отдельность, цельность (целостность). При этом цельность интерпретируется как осознание читателем цели, авторской интенции, мотива, организующих текст [Болотнова 1999: 33]. 54 Понятие информационной нормы используется в научной литературе применительно к средствам массовой информации (см., напр., [КРР 1998: 240]). 72
«постулат о детерминизме, в соответствии с которым каждое следствие имеет свою причину» [Токарев 2002: 27]. В совокупности эти постулаты и принципы связаны с логичностью как одним из коммуникативных качеств. Именно такое понимание логичности речи представлено в [Голуб, Розенталь 1997: 18]55. Принципы и постулаты этой группы находят выражение в тематической цепочке текста («тема и тезис целого текста в норме сохраняют свое единство на протяжении всего текста…» [Матвеева 1991: 63]) и структурно-связочной категории логического развертывания (при этом необходимо разграничивать логику рассуждения и логику изложения). К принципам, ориентированным на соблюдение формальнологической нормы, можно отнести также «принцип связности» К. А. Долинина и – применительно к диалогу – «принцип последовательности» (релевантности ответной реплики). Соблюдение названных принципов основано на текстовых категориях структурного характера: категории связности, иерархии и композиции. Хотя нужно иметь в виду, что ведущими признаками текста исследователи считают не грамматические показатели связности, а такие его свойства, как целостность, завершенность (см., напр.: [Костомаров 2005: 37; Корчагина 1988: 158]). С «принципом связности» коррелируют и так называемые линейные категории (по Т. В. Матвеевой, цепочки языковых единиц единой функционально-семантической предназначен55
В теории культуры речи говорят о логичности как одном из коммуникативных качеств, при этом выделяют логичность предметную, которая состоит в соответствии смысловых связей и отношений единиц языка в речи связям и отношениям предметов и явлений в реальной действительности», и логичность понятийную как «отражение структуры логичной мысли и логичного ее развития в семантических связях элементов языка в речи»; «существуют формы речи, где предметная логичность почти устранена (вернее, существенно трансформирована) сознательно – сказки, произведения художественной фантастики и другие формы художественного словесного творчества. Но логика понятийная как отражение структуры мысли и ее развития в семантических связях элементов речи должна присутствовать и здесь» [Головин 1980: 145]. К рассматриваемым принципам и постулатам имеет отношение понятийная логичность, в то время как предметная логичность коррелирует с первым постулатом Г. П. Грайса и постулатом правдоподобия К. А. Долинина. 73
ности): «тематическая цепочка (текстовой ряд номинаций одного и того же предмета мысли), цепочка хода мысли (логического членения текста), текстовая категория проспекции / ретроспекции (И. Р. Гальперин) [Матвеева 1991: 53] и – признак интегративности как ориентации всех элементов текстовой структуры на воплощение содержательного плана текста [Болотнова 1999: 35]. Тем самым «принцип связности» может иметь двойной характер: грамматическую связность единиц (когезия) и логическую связность при построении текста (когерентность). На соблюдение в речи предметно-логической нормы направлен «принцип правдоподобия» К. А. Долинина, который соотносится с коммуникативным качеством правдоподобия (см. об этом качестве [Москвин 2006а: 130]) и предметной (фактической) точности (соответствие речи действительности [Головин 1980б 41]). Этот принцип дублирует постулат «категории качества» Г. П. Грайса (не говори того, что считаешь ложным), если последний осмыслить как соответствие высказывания истинному положению дел. Проблема истинности56, по мнению Я. Мукаржовского, должна решаться по-разному применительно к художественному (в частности, эпическому и поэтическому) произведению и отдельно взятому высказыванию, не несущему эстетической значимости57, в чем ус56
Имеем в виду истинность при ее «внетекстовом обосновании» как «установление степени адекватности познаваемого содержания текста действительности». «Внутритекстовое обоснование истинности, – пишет А. Г. Баранов, – носит характер логической необходимости… и раскрывается главным образом в логике как когнитивная концепция истины; сюда же примыкают разработки текстуальности (как связность и цельность) в лингвистике текста». Исследователь считает, что «внутритекстовое обоснование истины осуществляется как внутренняя семантическая согласованность идентифицируемых значений компонентов высказываний, с одной стороны, и как когерентность высказываний – конституентов текста, с другой» [Баранов 1993: 43]. 57 «…Если мы воспринимаем определенное высказывание как сообщение, для нас будет важно, как это сообщение соотносится с действительностью, о которой повествуется, – пишет чешский исследователь. – А это значит, что слушатель, воспринимающий высказывание, будет все время задавать себе вопрос, пусть даже не формулируя его вслух, – в действительности ли произошло то, о чем говорящий повествует, таковы ли были на самом деле обстоятельства, которые он приводит» [Мукаржовский 1994: 99]. 74
матривается связь постулата качества с «принципом Функционализма» А. Г. Баранова. Что касается текстовых категорий, то, возможно, к этой группе принципов, связанных с проблемой истинности / ложности, имеют отношение семантические категории, связанные с отражением реальной действительности: категории модальности, времени, пространства, авторизации, содержательно-фактуальной и содержательно-концептуальной информации (о них см. [Матвеева 1991: 51]). Следующую группу составляют качества и принципы, имеющие отношение к этико-речевой норме. Это «принцип Вежливости» Дж. Лича с реализующими его максимами (максимой такта, максимой великодушия, максимой одобрения, максимой скромности, максимой согласия, максимой симпатии) и дополняющими их субмаксимами О. А. Васильевой. На соблюдение этической нормы ориентирован также «Принцип Экспликации Отношения» с его максимами, выделяемыми Л. А. Азнабаевой (максимой позитивного отношения, максимой снижения негативной реакции, максимой взаимности, максимой психологической поддержки говорящего, максимой скромности и максимой экспликации эмоциональной реакции). В эту Ответ на эти вопросы, по мнению исследователя, не обязательно должен быть положительным: он может сводиться к тому, что высказывание было частично или целиком фиктивным. Тогда слушатель попытается догадаться или установить, какую цель преследовал при этом говорящий. «В итоге изысканий или всего-навсего догадок возникнет дальнейшая модификация предметного отношения высказывания (т.е. его отношения к действительности): например, да, речь идет о фиктивном высказывании с целью обмануть слушателя, сбить его с истинного пути, т.е. речь идет о лжи; или – речь идет о фиктивном высказывании с целью выдать вымышленное событие за действительное, но без умысла воздействовать на поведение слушателя, а лишь для того, чтобы испытать, насколько он доверчив, т.е. речь идет о мистификации; или опять-таки – речь идет о фиктивном высказывании, но не с целью обмануть слушателя, а с целью нарисовать перед ним иной мир, чем тот, в котором он живет, утешить, порой напугать несовпадением вымышленной действительности с реальной, т.е. перед нами чистая фикция» [там же: 99-100]. Однако если перед нами поэтическое творение с эстетической функцией, то «вся конструкция предметного отношения высказывания, – отмечает исследователь, – обретет иной аспект» [там же]. «…Произведение приобретает способность указывать на совсем иные реальные факты, чем те, которые оно изображает…» [там же: 102]. 75
же группу отнесем «принцип терпимости к собеседнику» И. А. Стернина. «Принцип вежливости», «Принцип Экспликации Отношения», «принцип терпимости к собеседнику» и реализующие их постулаты отражают коммуникативное качество вежливости (о вежливости как качестве речи пишет В. П. Москвин [Москвин 2006а: 131]), а также качество чистоты, понимаемое как отсутствие в речи элементов, отвергаемых нормами нравственности. Хотя при более широком понимании чистой называют и такую речь, в которой отсутствуют чуждые литературному языку элементы [Головин 1980: 166]. К сфере этико-речевой нормы можно отнести упомянутый выше постулат «категории Качества» Г. П. Грайса (не говори того, что считаешь ложным [Грайс 1985: 222]). Особую группу составляют принципы и постулаты, которые нельзя однозначно соотнести только с какой-то одной нормой. Это постулаты «категории способа» Г. П. Грайса (выражайся ясно, то есть избегай непонятных выражений, неоднозначности, будь краток и организован). Ср. с «Принципом Ясности» Дж. Лича и «принципом уточнения выражения в контексте» В. З. Демьянкова. Им соответствуют коммуникативные качества чистоты, ясности, простоты, доступности и уже упоминаемой нами точности. Характер и степень ясности (как одного из условий доступности) должны соотноситься с характером и потребностями аудитории, с ее интеллектуальным уровнем и уровнем ее коммуникативной компетентности58. Когда в речи без какой-либо прагматической мотивации используются негрубые, невульгарные диалектизмы, жаргонизмы, иноязычные заимствования, профессионализмы, а также так называемые слова-паразиты, это затрудняет общение, но не нарушает норм морали, то есть этико-речевой нормы; происходит нарушение нормы, основанной на принципе целесообразности (функциональностилистической, жанровой, ситуативной или информационной в случае с использованием слов-паразитов). Норма же этико-речевая нарушается тогда, когда диалектизмы и жаргонизмы вульгарны, обозначают то, о чем в приличном обществе не принято говорить (особенно публично). Так, нарушением чистоты речи и, следовательно, этико-речевой нормы является употребление бранных слов и выра-
58
Т. Г. Хазагеров считает, что «нормы в отношении ясности» – риторические нормы [Хазагеров 2003: 57]. 76
жений, не только унижающих достоинство собеседника, но и снижающих статус говорящего. «Принцип Кооперации» Г. П. Грайса («принцип Сотрудничества» и «принцип Взаимодействия» – у А. Г. Баранова), заключающийся в заинтересованности субъектов в общении, в их стремлении согласовывать свои деятельности в соответствии с принятой целью и направлением разговора, реализует как коммуникативнопрагматическую, так и этическую норму (в своей основе принцип кооперации глубоко этичен). Так, постулат «категории Качества» Г. П. Грайса (не говори того, что считаешь ложным) можно отнести к сфере этической нормы. Его дублирует выделяемый В. З. Демьянковым «принцип правдивости и доверия» (если из него исключить условие уместности, а оставить условия истинности и правдивости). «Принцип Экспрессивности» Дж. Лича коррелирует с категорией оценочности и категорией тональности (в рамках последней Т. В. Матвеева рассматривает субкатегории эмоциональности, интенсивности и волеизъявления [Матвеева 1991: 90]). Модальность (оценочное отношение автора к изображаемому), эмотивность (внешняя трансляция эмоционального состояния языковой личности), прагматичность («способность вызывать коммуникативный эффект») и экспрессивность, по мнению Н. С. Болотновой, имеют отношение к регулятивности текста как его системному качеству, выделенному Е. В. Сидоровым [Болотнова 1999: 35]. Принцип экспрессивности соотносится с такими коммуникативными качествами хорошей речи, как богатство (разнообразие59 [Головин 1980: 215]) речи, образность, живость, эмоциональность, выразительность. Выразительностью речи называют «…такие особенности ее структуры, которые поддерживают внимание и интерес у слушателя или читателя…» [Головин 1980: 186]60. Очевидно, что «принцип Экспрессивности» и соотносимые с ним коммуникативные качества направлены на соблюдение эстетической нормы61, соот59
«Богатство речи можно определить как максимально возможное насыщение ее разными, не повторяющимися средствами языка, необходимыми для выражения содержательной информации…» [Головин 1980: 219]. 60 О разном понимании категорий образности, выразительности речи см., напр., в [ЭСС 2005: 90, 190-192]. 61 Из современных исследователей эту норму выделяют, напр.: [Богданова, Кочеткова 2001: 204; Хазагеров 2003: 57], что вполне обоснованно, 77
поскольку «о каком бы компоненте культуры речи ни говорилось, всегда имеется в виду норма…» [Ширяев 1996: 16]. Проблема эстетической нормы в искусстве, в том числе художественном произведении, разрабатывалась в 1930-х годах Я. Мукаржовским. Он пишет: «О настоящей норме можно говорить лишь тогда, когда речь идет об общепризнанных целях, по отношению к которым ценность ощущается как нечто, существующее независимо от воли индивида и его субъективных решений, иными словами – как факт так называемого коллективного сознания; сюда относится, помимо иных, и эстетическая ценность, определяющая меру эстетического наслаждения. В таких условиях ценность есть стабилизированная норма, иначе говоря, общее правило, применимое к каждому конкретному случаю, ему подчиняющемуся. Индивид вправе не согласиться с этой нормой и даже стремиться к ее изменению, но, производя оценку, пусть даже в противоречии с нормой, он не может отрицать ее существование и коллективную обязательность» [Мукаржовский 1994: 59-60]. Таким образом, исследователь пишет об объективном характере существования эстетической нормы и ее тенденции к «абсолютной обязательности». Объективный характер существования нормы подтверждается, по его мнению, и тем фактом, что ее изменения происходят «в весьма широком диапазоне и совершенно явственно», в отличие от языковых норм, которые «изменяются хотя и действенно, но незаметно» [там же: 65]. Эстетическую норму, в концепции Я. Мукаржовского, нужно понимать не как «…априорное правило, которое с точностью измерительного механизма определяло бы оптимальные условия эстетического наслаждения, а как живую энергию, которая… организует сферу эстетических факторов и направляет ее развитие» [там же: 88]. Что касается языковых норм, то они, по мнению этого исследователя, «…не имеют ничего общего с эстетической нормой, но способ их использования в искусстве придает им значение эстетических норм» [там же: 166]. О важности осмысления и изучения эстетической нормы (в том числе применительно к языку) свидетельствует такое высказывание Я. Мукаржовского: «Система эстетических норм, называемая вкусом, имеет здесь столь большой авторитет, что нарушение этих норм может привести того, кто их нарушил, к индивидуальной или даже социальной деградации» [там же: 169]. Применительно к языку понятие эстетической нормы оказывается тесно связанным с понятием «языкового вкуса», введенным В. Г. Костомаровым [Костомаров 1999]. Об «эстетике речевого общения» пишет и А. К. Михальская [Михальская 1998а: 287].
78
ветствующей эстетическому компоненту культуры речи и такому качеству, как красота речи (это качество выделялось Цицероном наряду с правильностью, уместностью и ясностью – [Хазагеров 2003: 56-57]), или, можно сказать, эстетическая выдержанность. По мнению Т. В. Матвеевой, «эстетический компонент связан с укоренившимися в отечественной культуре представлениями о том, что красиво и что некрасиво в речи. Обобщенно эстетика речи связана с понятиями богатства и выразительности речи» [Матвеева 2003: 123]. Абсолютное совпадение конкретного явления с соответствующей эстетической нормой Я. Мукаржовский определяет как прекрасное [Мукаржовский 1994: 186]. С прекрасным связывает понятие эстетического и А. П. Сковородников, который пишет: «Критерий эстетической приемлемости связан с категорией прекрасного и ее частными проявлениями в языке и речи: благозвучием, изобразительностью, выразительностью, эстетически значимой ассоциативностью. Если высказывание (речь, текст) не отвечает хотя бы одному из этих частных критериев, следует говорить о его несоответствии эстетической норме» [Сковородников 1998: 15]. Однако эстетическую норму исследователь не ставит в один гипонимический ряд с коммуникативно-прагматической и этико-речевой. Критерий эстетической приемлемости (соответствия идеалу прекрасного) он относит к коммуникативно-прагматической норме [там же: 13]. Нельзя не обратить внимания на тот факт, что не все описанные в научной литературе принципы и постулаты общения нашли отражение в условно выделенных нами группах, соотнесенных с тем или иным типом нормы. Это «Принцип Оптимальной Интерпретации» (Д. Франк), «Принцип Разумного Эгоизма» С. В. Шиловой, «Принцип Антиципации» Л. А. Азнабаевой и некоторые другие. Эти постулаты не соотносятся очевидным образом с теми или иными коммуникативными качествами хорошей речи и типами норм, рассматриваемыми в лингвистике. Хотя мы не исключаем, что при более пристальном их изучении такие корреляции могут быть найдены. Сложность поиска корреляций затрудняется отсутствием общепринятой классификации как принципов общения, так и текстовых категорий и коммуникативных качеств хорошей речи62. 62
О различном понимании термина «текстовая категория», классификациях текстовых категорий см. [Матвеева 1991: 44-48]. 79
Качества речи, принципы и постулаты соответствуют тем или иным риторическим принципам и категориям, положенным в основу учения о риторическом идеале: «Этико-эстетический образец отечественной культуры, – пишет А. К. Михальская, – подразумевает особую роль категорий гармонии, кротости, смирения, миролюбия, негневливости, уравновешенности, радости, а реализуется в диалогическом гармонизирующем воздействии, риторических принципах немногословия, спокойствия, правдивости, искренности, благожелательности, ритмической мерности, отказе от крика, клеветы, сплетни, осуждения ближнего» [Михальская 1996а: 400]. «…Соблюдение одних постулатов более обязательно, чем соблюдение других…», – пишет Г. П. Грайс [Грайс 1985: 223]. Подобное утверждение о разных степенях облигаторности постулатов Кооперации справедливо и по отношению к другим принципам речевого общения. Если этические принципы носят обязательный характер, то необходимость соблюдения иных принципов (в частности, «принципа экспрессивности», «принципа правдоподобия») и их характеристики будут существенно различны в художественном и деловом стилях. М. Н. Кожина среди стилевых черт выделяет «общеречевые нормативно-литературные»: «…ясность, простота, яркость, выразительность, точность, лаконизм, логичность и др. В с я к а я речь должна обладать в той или иной мере всеми (или почти всеми) этими качествами, иначе она будет стилистически неполноценной» [Кожина 1972: 99]. Стилевые черты допускают полярность: «логичность (понятийность) – эмоциональность, объективность – субъективность, абстрактность – конкретность, точность – расплывчатость, ясность – затемненность, официальность – непринужденность, лаконичность – пространность, статичность – динамичность» [там же: 102]. Вместе с тем нет, например, коммуникативных качеств расплывчатости, затемненности, пространности63.
63
Качества речи, как и принципы, направлены на оптимизацию речевого общения. Однако эти понятия используют иногда применительно к разным видам речевого воздействия, в результате чего говорят, например, о «принципе некооперации» (см. [Николаева 1990: 225]). 80
Таблица 1 Нормы, коммуникативные качества хорошей речи и реализующие их принципы и постулаты речевого поведения / общения Норма
Коммуникативные качества речи 1 2 Собственно язы- Правильность, ковая точность (словоупотребления) Функциональностилистическая, жанровая и ситуативная
Уместность (стилевая, жанровая, ситуативная)
Информационноречевая Формальнологическая
Информативность Логичность (соблюдение законов формальной логики)
Предметнологическая
Правдоподобие, предметная логичность
81
Принципы и постулаты речевого общения 3 Правила системности языка, рассматриваемые А. Г. Барановым в рамках принципов коммуникации; постулат категории способа Г. П. Грайса Принцип ситуативности, принцип целенаправленности (К. А. Долинин) = принцип целесообразности (М. Р. Савова) Постулаты категории количества Г. П. Грайса Принцип потенциальной выявимости оснований, доводов для высказывания (В. З. Демьянков), постулат категории качества Г. П. Грайса («не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований»), принцип последовательности и принцип связности (К. А. Долинин) Постулат категории качества Г. П. Грайса «не говори того, что считаешь ложным», осмысленный как соответствие высказывания истинному положению дел; принцип правдоподобия (К. А. Долинин)
1 Этико-речевая
Функциональностилистическая, этико-речевая Эстетикоречевая
Продолжение таблицы 1 3 Принцип вежливости (Дж. Лич) с реализующими его постулатами / максимами, принцип правдивости и доверия (В. З. Демьянков), принцип экспликации отношения (Л. А. Азнабаева), принцип терпимости к собеседнику (И. А. Стернин) Ясность Постулаты категории способа Г. П. Грайса (избегай непонятных выражений, неоднозначности, ненужного многословия; будь организован) Образность, жи- Принцип экспрессивности вость, эмоцио- Дж. Лича нальность, выразительность, богатство
2 Вежливость, чистота (отсутствие элементов, отвергаемых нормами нравственности)
Обратим внимание и на тот факт, что Г. П. Грайс пишет о коммуникативных постулатах с целью обоснования механизмов создания речевых импликатур, а последующие исследователи рассматривают постулаты шире – не только в рамках проблемы имплицирования. Текстовые и лингвопрагматические нормы могут быть рассмотрены в аспекте учения о системности акта речевой коммуникации, разработанного в рамках теории системной организации речи Е. В. Сидоровым. Согласно концепции этого исследователя, акт речевой коммуникации представляет собой систему, включающую три компонента, каждый из которых в свою очередь также является системой: коммуникативная деятельность отправителя сообщения (первичная коммуникативная деятельность), коммуникативная деятельность адресата (вторичная коммуникативная деятельность) и речевое произведение (текст). Коммуникативные деятельности определяются как последовательности (система) речемыслительных действий и 82
операций, направленных на достижение некоторой неречевой цели и проходящих через различные фазы деятельности (фазу ориентирования в условиях задачи и выбора плана действий, т.е. стратегии поведения, фазу осуществления плана и фазу сличения полученного результата с намеченной целью). Текст характеризуется как «некоторое единство предметных (графических или фонетических) знаков, "знаковых тел"». В речевой коммуникации ему присущ статус относительной самостоятельности, так как он может существовать отдельно от деятельностей [Сидоров 1987б: 9-12]. В соответствии с подсистемами системы речевого акта, очевидно, можно говорить о текстовых нормах как нормах упорядочения знаков, их последовательностей64 и лингвопрагматических нормах как нормах коммуникативных деятельностей. И в том и в другом случае речь идет о речевых нормах (нормах речевой коммуникации). Взаимосвязь между этими нормами очевидна и закономерна, так как основана на целостности акта речевой коммуникации. Причем целостность эта, по Е. В. Сидорову, выражается не столько в связи между собой названных подсистем (это отношения речепорождения и речевосприятия), сколько в наличии единого общесистемного функционального отношения, связывающего системы, – отношения взаимодействия речевых подсистем. Поэтому структура акта речевой коммуникации есть структура взаимодействия общающихся людей, а главная его функция – организация процесса социального взаимодействия. Акт речевой коммуникации как функциональная система является подсистемой социальной деятельности [там же: 13-15], а речевая норма, как и языковая, является разновидностью нормы социальной. Существенно то, что «вторичная коммуникативная деятельность конструктивно у ч а с т в у е т, еще в субъективной форме ("как внутренний образ"), в создании текста» [там же: 18]. Другими словами, в тексте воплощаются «программы речемыслительных дей64
Такое определение речевой нормы не противоречит определению, данному А. П. Сковородниковым и приведенному нами выше в параграфе 3.1. Оно сформулировано на основе понятия текстовой системности, глубинные основания которого находят выражение «…во внешней упорядоченности речевых знаков и их последовательностей» и заключаются «…в целостном сопряжении моделей деятельностей участников коммуникации, образующем коммуникативное содержание текста» [Сидоров 1987в: 4-5]. 83
ствий получателя, т.е. речь строится как р е ч ь д л я д р у г о г о и в известном, ограниченном смысле как речь другого» [там же: 25]. Отсюда требование учитывать фактор адресата в лингвистической прагматике, нашедшее отражение в постулатах общения. Немаловажен и тезис Е. В. Сидорова о реализации акта речевой коммуникации «в виде процесса смены последовательностей состояния системы: процессуально-деятельностное состояние сменяется предметно-знаковым, а предметно-знаковое – процессуальнодеятельностным». Это значит, что первичная коммуникативная деятельность не исчезает с завершением процесса, а содержится в тексте, что «каждая из субстратно-различных подсистем относится к другой как и н о е этой системы» [там же: 22]. Отсюда «тот очевидный факт, что анализ одной из подсистем акта коммуникации позволяет судить об организации других подсистем…» [там же: 19]. Этим и объясняется, с нашей точки зрения, тесная взаимосвязь реализующих ту или иную норму принципов, постулатов общения, коммуникативных качеств хорошей литературной речи и текстовых категорий. Их сопоставление и анализ различных трактовок речевой нормы приводит к выводу о возможности выделения в рамках речевой нормы (и текстовой, и лингвопрагматической) таких тесно связанных между собой норм, как функционально-стилистическая, ситуативная, информационно-речевая, логико-речевая (формально-логическая, предметно-логическая), этико-речевая и эстетико-речевая (см. схему 1). Эти нормы характеризуют один и тот же объект (речь) в разных аспектах. К этому перечню можно добавить норму нерегулярной встречаемости однородных языковых единиц (как систему статистических показателей, характеризующих «принцип нерегулярности текстовой структуры»), о которой речь шла выше.
84
Схема 1 Типы коммуникативных норм Коммуникативные нормы (нормы общения как разновидность социальных норм)
Нормы невербального общения
Нормы вербального общения
Собственно языковые (структурноязыковые) нормы
Собственно речевые нормы
Текстовые
Лингвопрагматические
– функционально-стилистическая, или функционально-речевая (в том числе жанровая) норма; – ситуативная норма; – норма «нерегулярности текстовой структуры»; – информационно-речевая норма; – логико-речевая (формально-логическая и предметно-логическая) норма; – этико-речевая норма; – эстетико-речевая норма
Намеченные спорные вопросы современной теории норм и проведенный обзор различных точек зрения по этим вопросам позволяют утверждать о существовании определенной системы норм различного типа, описание и уточнение которой одна из первоочередных задач современной лингвистики. Эта система осмысливается нами следующим образом (см. схему 1): коммуникативные нормы 85
подразделяются на нормы вербального общения и нормы невербального общения; в рамках норм вербального общения выделяются структурно-языковые нормы и нормы собственно речевые, которые в зависимости от аспекта изучения подразделяются на текстовые и лингвопрагматические; в рамках речевых (и текстовых, и лингвопрагматических) норм выделяются тесно связанные между собой нормы, соотносимые с разными аспектами рассмотрения явлений речевой действительности: функционально-стилистическая, или функционально-речевая (в ее рамках – жанровая), ситуативная, норма нерегулярной встречаемости однородных языковых единиц, информационно-речевая, формально-логическая, предметнологическая, этико-речевая и эстетико-речевая.
86
Глава 2 Риторический прием как прагматически мотивированное и моделируемое отклонение от нормы или ее нейтрального варианта 1. Отклонение от нормы как базовый принцип построения риторических приемов и его возможная нейтрализация 1.1. Отклонение от нормы и смежные понятия: отклонение от стереотипа, отклонение от стандарта, отклонение от нулевой ступени, нарушение нормы, колебание нормы, аномалия Отклонение от нормы и отклонение от стереотипа, стандарта Термин «отклонение от нормы» широко используется в современной лингвистической литературе. Однако дефиниции этому термину исследователи, как правило, не дают, очевидно, в силу его семантической прозрачности. Не представлена дефиниция «отклонения от нормы» и в известных нам лингвистических словарях и справочниках, в том числе в Большом энциклопедическом словаре «Языкознание», где этот термин упоминается в словарной статье «Лингвистическая философия» в связи с анализом примера Мура «Идет дождь, но я так не считаю»: «Приведенное предложение, – пишет в словарной статье Н. Д. Арутюнова, – не содержит прямого логич. противоречия. Это отклонение от нормы, а не от истины» [БЭС 1998: 270]. Между тем термин «отклонение», как и всякий другой научный термин, нуждается в дефинировании (определении). Происхождение понятия «отклонение» связывают с именем французского поэта Поля Валери, а введение его в широкое употребление приписывают лингвисту Шарлю Брюно. Отмечают также, что само понятие отклонения пришло в лингвистику из недр поэтики, где оно трактовалось как «нарушение принятых языковых норм» (Цв. Тодоров) или как «расхождение с принятой нормой» (Ж. Коен) [Антонов 2003: 249]. 87
Конечно, давая определение отклонению от нормы, необходимо исходить из самого понятия нормы. Это необходимо потому, что, во-первых, норма входит в терминологическое сочетание «отклонение от нормы» в качестве его составного компонента, и, во-вторых, «противопоставление норма – антинорма носит… относительный характер» [Мурзин 1989: 12]. Об этом свидетельствует существование нормального (нормативного), традиционного порядка следования членов предложения и отклонения от этого порядка – так называемой инверсии, которая дает значительный стилистический эффект. В то же время существует и нормативная грамматическая инверсия (вопросительная форма), однако и эта грамматическая норма может быть нарушена: экспрессивный вопрос может быть задан и с прямым порядком слов [Арнольд 2002: 93]. Важно отметить, что применительно к явлениям языка/речи, речевому поведению норма осмысливается как некое признанное предписание, что отражено во многих определениях этого понятия. Применительно же к некоторым другим явлениям бытия понятие нормы в таком значении некоторые исследователи считают неприемлемым. Так, Абрахам Г. Маслоу о «Таблице нормального физического развития младенца», составленной Гезеллом, пишет: «Спору нет, эта таблица представляет интерес для ученых и педиатров. Но нельзя забывать, что в ней приведены именно среднестатистические показатели детского развития. Результатом подмены понятий [«среднее значение» и «норма». – Г. К.] становится тревога тысяч матерей, обеспокоенных тем, что их дети начинают пить из чашки или делают первые шаги позже, чем положено в соответствии с таблицей. Очевидно, что, установив среднюю величину, мы должны затем задаться вопросом: "Следует ли рассматривать среднее как полезное, желательное для человека"» [Маслоу 1999: 351]. Однако в лингвистике среднестатистические показатели признаются, как правило, за нормативные как при узком (см. понятие среднестатистической нормы в работах Л. К. Граудиной), так и при широком понимании нормы. По мнению Л. Н. Мурзина, наличие в языке нормы и отступлений от нормы («ненормы», «антинормы») не случайно: «Оно связано с теми существенными противоречиями, которые свойственны механизмам языка и которые так или иначе проявляются в любом продукте речевой деятельности». «Любой текст, – считает исследователь, – заключает в себе противоречие: он принадлежит его создате88
лю, ибо является продуктом индивидуального семиотического творчества, и вместе с тем не принадлежит ему, ибо в нем воспроизведены другие тексты, отзвуки чужого голоса. Очевидно, в тексте воспроизводится норма языка и производится антинорма. Воспроизводство нормы обеспечивает определенную стандартность текста и, следовательно, взаимопонимание говорящих, а производство антинормы делает текст индивидуально-неповторимым и создает определенные предпосылки для развития языка». «Разумеется, – пишет далее Л. Н. Мурзин, – элементы, которые только что воспроизведены в тексте, и те из них, что произведены заново, неразрывно слиты и вряд ли практически могут быть безоговорочно разграничены, ибо между нормой и антинормой нет и не может быть абсолютной границы» [Мурзин 1989: 9]. Поэтому антинорму он определяет как «бесконечный ряд семиотических операций, бесконечно разнообразных, хотя и в известной мере упорядоченных лежащими в их основе правилами». По его мнению, «…то, что называют отступлением от нормы, на самом деле столь закономерно, что для языкового механизма является нормативным: это тоже норма, хотя и отрицающая норму в обычном смысле слова» [там же: 12]. Очевидно, исследователь здесь имеет в виду то, что возможность отступлений предусмотрена самим языком65. Что касается соотношения терминов «антинорма» и «отклонение от нормы», то их, думается, нельзя считать синонимичными хотя бы уже на том основании, что отклонение, в отличие от антинормы, предполагает градуирование (отсюда выражение «степень отклонения») и нейтрализацию (о нейтрализации см. далее). Н. Д. Арутюнова отмечает, что действие отклонения от нормы «берет свое начало в области восприятия мира, поставляющего данные для коммуникации, проходит через сферу общения, отлагается в лексической, словообразовательной и синтаксической семантике и завершается в словесном творчестве» [Арутюнова 1998: 80]. Восприятие мира, утверждает исследователь, фиксирует прежде всего аномальные явления, потому что они отделяются от любого фона: «Известный персонаж Честертона пастор Браун рекомендовал прятать сухой лист в куче сухих листьев. Там его не найдет ни сыщик, ни 65
О том, что норма, языковые правила предусматривают возможность отклонения, см., напр.: [Булыгина, Шмелев 1997: 439; Головин 1980: 40; Мукаржовский 1994: 168; Кожина 1993: 61; Радбиль 2006: 3, 7]. 89
"укрыватель". То, что не отделено от фона или среды погружения, трудно заметить, а о том, что осталось незамеченным, нельзя сообщить» [там же]. Другими словами, «…отклонения возможны, но только на общем фоне соблюдения правил», – пишет Б. Ю. Норман [Норман 1994: 13]. Учитывая сказанное выше, понятие «отклонение от нормы» можно определить следующим образом: отклонение от нормы – это переход в речи к такому способу выражения (устному или письменному), которое не соответствует обычному, регламентированному, что связано с особым восприятием мира адресантом, его эмоциональным состоянием и/или стремлением оказать определенное воздействие на адресата. Помимо терминологического сочетания «отклонение от нормы», в научной литературе можно встретить и такие: «отклонение от стереотипа жизни», «отход от стереотипа жизни (а не от частного факта»), «отклонение от среднестатистического стандарта», «отступление от жизненного стандарта» [Арутюнова 1998: 76-88]. Если норму понимать широко, то эти терминологические сочетания, повидимому, можно считать синонимичными66. Н. Д. Арутюнова пришла к выводу о возможности выделения в составе родового концепта нормы «...серии частных, нечетко разграниченных групп понятий: 1) космос, порядок, упорядоченность, сформированность, система, структурированность; 2) строй, гармония, лад, пропорциональность (соразмерность), ритм, регулярность, уравновешенность, слаженность, инертность; 3) кодекс, закон, запо66
О том, что норма может быть определена как образец, стандарт, см. в [Каспранский 1990: 12]. Поскольку «поведение индивидов, в том числе и речевое, осуществляется в рамках неписаных (и писаных) законов, выработанных обществом в силу многократного повторения одинаковых проявлений в стандартных ситуациях», то и нормы социального поведения стандартизованы, – отмечает Н. И. Формановская [Формановская 2002: 181]. Ср. также: «Думается, в самом общем виде стилистическую норму можно определить как соответствие текста (относящегося к тому или иному жанру, функциональной разновидности, подсистеме литературного языка) сложившемуся в данной культуре и общественно принятому в данный момент стандарту, предполагающему как вариативность, так и определенные ограничения и предпочтения в процессе продуцирования текстов с заданными функционально-коммуникативными характеристиками» (курсив наш. – Г. К.) [Гукасова 2000: 65-66]. 90
ведь, норма, правило (учредительное, регулятивное), конституция, предписание (прескрипция), установление, указ, статут, договор; 4) режим, регламент, расписание, распорядок, последовательность, связность, непрерывность (континуальность), цикл; 5) канон, парадигма, модель, трафарет, форма, стереотип, стандарт, тип; 6) направление, курс, план, программа, алгоритм; 7) организм, организация, механизм, целостность, кругооборот». Все эти нормативные концепты, по мнению исследователя, объединены некоторым «фамильным сходством», не предполагающим наличия у всех групп единого понятийного ядра [Арутюнова 1987: 6-7]. Понятие нормы, как мы видим, входит в одну группу с понятиями правила, кодекса, указа и др., содержащими в себе модальность предписания, долженствования, в отличие от стандарта, стереотипа67, предполагающих некую типичность явления. Поэтому при осмыслении феномена языковой нормы возникают разночтения: «Для отечественной традиции характерно известное расхождение взглядов при определении понятия нормы. С одной стороны, норма определяется здесь как некая совокупность "употребляемых (общепринятых) языковых средств", характеризуемых вместе с тем как правильные, предпочитаемые, образцовые, обязательные и т.д. . С другой стороны, некоторая часть определений строится на выделении регламентирующей функции нормы, упорядочивающей употребление этих средств (ср., например, понимание нормы как совокупности правил ), или, наконец, объединяет оба плана в характеристике нормы » [Семенюк 1970: 553554]68. Если же языковую норму рассматривать в системе других норм, а не изолированно от них, то понятия нормы, стереотипа и стандарта можно было бы признать синонимичными. Функцию нормы исследователи и видят в том, чтобы «…обеспечить предсказуе67
Впервые понятие стереотипа, как пишет В. А. Маслова, было использовано У. Липпманом в 1922 году. Сейчас, отмечает она, это понятие широко используется в различных областях знаний, где определяется поразному. В соответствии с одной из точек зрения, стереотип – содержательная сторона языка и культуры, которая коррелирует с «наивной картиной мира» [Маслова 2004: 58]. При таком понимании стереотип соотносится с нормой в ее широком понимании. 68 Мнения об отсутствии достаточно четкого определения понятия нормы в лингвистике придерживается также [Алейникова 1991: 143]. 91
мость, известную стандартность и общепонятность поведения» [Сухих 1987: 96]. Но следует учитывать, что сочетания «языковая норма» и «языковой стереотип» так же, как сочетания «речевая норма» и «речевой стереотип», в системе современной лингвистической терминологии не находятся в отношениях синонимии: под языковым (речевым) стереотипом, или клише, понимают любые устойчивые выражения [Маслова 2004: 59], или готовые, легко воспроизводимые в определенных ситуациях и сферах общения обороты, или, другими словами, многократно повторяющиеся речевые единицы, подвергшиеся стандартизации [Маслова 2004: 59 и др.]. Поэтому в дальнейшем мы будем оперировать понятием нормы, а не стереотипа или стандарта, хотя и признаем, что языковые, речевые и другие социальные нормы – это тоже стереотипы, но с модальностью предписания, заданные человеком. Поскольку, как мы выяснили ранее, существует широкое (философское) осмысление феномена нормы, исследователь, употребляя термин «отклонение от нормы», должен уточнять, что он понимает под нормой и о каком типе нормы пишет применительно к тому или иному речевому факту. Помимо отклонения от нормы, ученые оперируют и такими понятиями, как «отклонение от нулевой ступени», «нарушение нормы» и «колебание нормы». Отклонение от нормы и отклонение от нулевой ступени, нарушение нормы, колебание нормы «Нулевая степень, – отмечает Н. Л. Кацук, – понятие философии постмодернизма, означающее мнимую референциальность мифологического (Р. Барт), гиперреального или симулякра (Бодрияр), а также лимитированность гиперинтерпретации (Эко); де-конструкт радикальной рефлексии развития культуры модерна, вскрывающей ее фундированность идеей присутствия, наличия» [Кацук 2001: 529]. Считается, что впервые это понятие было использовано датским глоссематиком В. Брендалем для обозначения нейтрализованного
92
члена какой-либо оппозиции, однако широкое применение оно получило благодаря работе Р. Барта «Нулевая степень письма» (1953 г.)69. По Р. Барту, нулевая степень письма («белое», «нейтральное», «прозрачное» письмо) – это письмо сугубо денотативное, лишенное каких-либо коннотативных идеологических содержаний, «внемодальное» письмо. Нулевое письмо означает, что писатель, будучи не вовлеченным ни в одну идеологию, становится безоговорочно честным человеком (по [там же: 529-530]). Как мы увидим ниже, в языкознании понятие нулевой ступени (нулевой степени) используется в ином значении, нежели в философии постмодернизма. Поэтому, не останавливаясь на изложении концепций других ученых этого направления, перейдем к рассмотрению интересующего нас понятия в лингвистических работах. Отмечая, что понятие нулевой ступени сложно поддается однозначному определению, В. П. Антонов пишет: «В одно и то же время нулевая ступень – это и норма (узус), и некий предел, и точка отсчета, и нейтральное функционирование единиц языка»; «…это некоторая исходная точка функционирования разнообразных средств языка, шагнув за которую, носитель данного языка допускает определенные нарушения или отклонения от этой исходной точки». И далее: «Нулевая ступень в языке (языкознании) – это норма», или «общепринятый способ языкового выражения…» [Антонов 2003: 246-247]. «…В обобщенном смысле нулевую ступень можно представить как немаркированный языковой код, т.е. как обычное употребление языка, в котором не наблюдаются ни языковые, ни речевые, ни стилистические, ни риторические отклонения» [там же: 249]. По мнению Ж. Дюбуа и других авторов «Общей риторики», довольствоваться неформальным определением нормы как «нейтрального» (без всяких украшательств, намеков) дискурса можно, но не стоит, так как не всегда просто утверждать, что тот или иной говорящий воспользовался словом без всякого «подтекста» [Дюбуа и др. 1986: 68-69]. На протяжении всей книги в понятие «нулевой ступени» они вкладывают разное содержание. С одной стороны, авторы «Общей риторики» употребляют это понятие как синоним «нормы» [там же: 51, 68, 74 и др. стр.], с другой – используют его для обозначения некоего прообраза, от которого отклоняется говорящий и к 69
Н. А. Безменова пишет, что понятие «нулевой ступени» впервые было введено Р. Бартом (см. об этом в кн. [Дюбуа и др. 1986: 367]). 93
которому приходит слушающий в результате автокоррекции [там же: 75, 219-220]. Однако этот прообраз может быть не нейтральным. Так, стилистически значимое отсутствие в тексте изобразительновыразительных средств языка, или «минус-прием»70, отсылает нас к представлению об этом тексте как жанрово вовсе не нейтральном. Об «отклонении от нейтральной ступени» пишет А. П. Сковородников. Отклонениями от нейтрального варианта (нейтральной ступени) нормы он считает, в частности, эллипсис (1) и антиэллипсис (2), напр.: (1) Но Мишка ни на шаг не отстает от нее: мать в погреб и он за ней, мать на кухню – и он следом (М. Шолохов) – стилистически значимый пропуск члена предложения. Ср.: …мать идет в погреб и он следует за ней, мать идет на кухню – и он следом; (2) Люба подвязала вожжи к тележному передку, поглядела из-под руки на солнце. Потом она спрыгнула с фуры и на минутку сбежала к воде (В. Белов) – избыточное замещение синтаксической позиции, обладающее стилистической значимостью. Ср.: Люба подвязала вожжи . Потом спрыгнула с фуры и на минутку сбежала к воде [СЭС 2005: 26]. Определение понятию «отклонение от нейтральной ступени (варианта)» нормы, или «отклонение от нулевой ступени нормы», исследователь дает в статье «Риторическое восклицание», где пишет: «Понятие Р.в. как стилистического приема, возможно, получит бóльшую определенность, если его подвести под понятие отклонения от нейтральной ступени (варианта) нормы, приняв за нее синтаксическую структуру, не имеющую в своем составе каких-либо формальных показателей эмоциональности», что позволит отграничивать риторическое восклицание от обычного восклицательного предложения [там же: 277]. Таким образом, нормативной в языке может быть как нейтральная, так и экспрессивная форма. Следовательно, необходимо разграничивать понятия «норма» и «нулевая ступень нормы» как ее нейтральный вариант и, соответственно, отклонение от нормы и отклонение от нулевой ступени нормы (от нейтрального варианта нор-
70
Термин «минус-прием» используется в работах [Киселева 1970: 37; Лотман и школа 1994: 72; Мороховский и др. 1991: 18] и др. 94
мы, или нейтральной нормы71). Иначе как можно объяснить стилистическую значимость безличных предложений? В. А. Богородицкий полагает, что одночленные (безличные) предложения можно рассматривать как продукт сокращения нормальных двучленных предложений (по [Апресян 1966: 6]). Отклонение от нормы (применительно к языку/речи) мы предложили выше определять как переход к такому способу употребления языковых средств, которое не соответствует обычному, регламентированному, т.е. признанному в той или иной ситуации (контексте) за образцовое. Отклонение от нулевой ступени нормы – отход от нормативно-нейтрального способа выражения в той или иной конситуации. Нередко как дублеты используются термины «нарушение нормы» и «отклонение от нормы», однако необходимо иметь в виду, что первый термин, в отличие от второго, ассоциируется скорее с негативными отклонениями (ошибками), нежели с приемами как отклонениями прагматически мотивированными, которые именуют также «мнимыми нарушениями нормы» (термин [Ризель 1973: 79]). Термин «колебание» (или «колебание нормы»), как отмечает Л. К. Граудина, широко употребляется в лингвистике, но при этом является, с одной стороны, неоднозначным, а с другой – оказывается связанным с проблемами динамики языка. Чтобы уточнить статус «колебания», она выделяет несколько моментов, важных для понимания этого явления. 1. «Понятие "колебание" органически связано с языковой системой; оно вытекает из реализации системы языка – в той широко распространившейся концепции, которая возникла на основе теоретической платформы Пражского лингвистического кружка и известной схемы Э. Косериу («система-норма-речь». – Г. К.)» [Граудина 1996: 178]. Эта концепция «…позволяет интерпретировать норму как коррелят системы, как закономерность реализации системных воз71
Термин нейтральная норма встречается в работах [Гринберг 1987: 34-35; Ризель 1973: 76-77]. Оппозиции нейтральная норма – норма соответствует в иной терминологической системе оппозиция стилистически нейтральная норма (норма с нулевой стилистической окраской) – стилистически маркированная норма (об этой оппозиции см. [Ризель 1973: 76-77]). О нейтральной и экспрессивной синтаксической норме см. также [Никитина 1990: 41]. 95
можностей языковой единицы…», а колебание нормы – как «проявление нестабильности плана выражения» (выделено нами. – Г. К.), которая «…может иметь место и относительно отдельно взятой языковой единицы, и относительно клетки парадигм, и относительно определенной позиции в том или ином фрагменте системы» [там же]. 2. Колебание органически связано с асимметрией языкового знака и с категорией избыточности: «…диктуемое асимметрией языкового знака колебание, связанное с избыточностью в плане выражения, может реализоваться и как внутриединичная, и как межъединичная изофункциональность, а это может быть представлено как вариантностью, так и синонимией» [там же: 179]. Причем вариантность может быть нормативной (нормативная вариантность – термин А. А. Леонтьева) при наличии в языке равноправных литературных вариантов (напр.: издалекá и издалёка). В случае же неравноправных литературных вариантов (напр.: прош. вр. собрáлся и устар. собрался') имеет место собственно колебание нормы; соотношение вариантов как «литературный – нелитературный» (напр.: инструмéнт, но не инстрýмент) Б. С. Шварцкопф квалифицирует не как колебание, а как колебание употребления языковой единицы в литературной речи, как расшатывание нормы «снаружи» [Шварцкопф 1977: 130]. 3. «Колебание выступает как форма деятельностного проявления языка. Это такая форма функционирования языковой системы (и ее норм), в процессе которой совершается нормально не осознаваемая деятельность массы говорящих или пишущих в русле незаметных стихийных изменений» (выделено нами. – Г. К.). И далее: «По своей функционально-системной направленности колебание есть не что иное, как спонтанный поиск в плане разрешения внутрисистемных противоречий, а по своему механизму колебание – выход за пределы фиксированного правилом, т.е. результат колебания ориентирован на выход за пределы предшествующей кодификации» [Граудина 1996: 179]. 4. Л. К. Граудина отмечает также взаимосвязь понятия колебания и функционирования языка и приводит цитату из работы С. И. Ожегова о том, что колебания в нормах являются «обычным явлением живого развивающегося языка» [там же]. Она приходит к выводу, что содержание понятия колебания обусловлено сущностью таких понятий языка и языковой системы, как «система», «норма» и «асимметрия языкового знака», и что в культурно-речевых исследо96
ваниях недостаточно исходить только из двух базовых понятий «норма / ненорма», или «норма / отклонение от нормы» [там же: 180]. О том, что колебание не может быть квалифицировано как отклонение от нормы, применительно к пунктуационной норме писал Б. С. Шварцкопф [КРР 2003: 363]. Тем не менее явление прагматически мотивированного отклонения от языковой (литературной) нормы имеет с колебанием общие черты. Оно также может рассматриваться как проявление нестабильности плана выражения (выбирается ненормативный способ оформления мысли или нормативный, но не нейтральный – т.н. «нормативная вариантность») и как одна из форм функционирования языка72. Отклонение может быть основано на явлениях как вариантности, так и синонимии. Прагматически мотивированные отклонения от нормы также представляют систему особого рода. В этом отношении интересно такое наблюдение: «…отклонения от нормы не являются вполне свободными: на них обязательно накладываются некоторые ограничения: в запретах можно обнаружить систему, присутствие которой необходимо, чтобы сообщение было понятным» [Арнольд 2002: 97-98]. Отклонение от нормы и аномалия Термин «аномалия», по сравнению с «отклонением от нормы», в лингвистической литературе, по нашим наблюдениям, используется реже и является многозначным. Во многих случаях аномалию определяют как «явление, нарушающее какие-либо сформулированные правила или интуитивно ощущаемые закономерности…» [Булыгина, Шмелев 1990: 94], «отклонения от регулярных форм» [БЭС: 27], «отклонение от той или иной конкретной нормы» [Плотникова 2005: 265], «несоответствие общему или стандартному типу формообразования, построения и т.п., отклонение от нормы» [Ахманова 2004: 48]. Такое соотношение между этими понятиями получило отражение и в 72
«Одно из условий успешного развития языка – существование определенного фона оптимальных отклонений от нормы» [Григорьев, Григорьева 1990: 8]. Отклонение от нормы, согласно идеям М. А. Петровского (его идеи изложены в кн. [Корольков 1973: 65-66]), – это выбор одного из вариантов построения фразы. 97
«Логическом словаре-справочнике»: «Аномалия – отклонение от нормы, от общей закономерности, необычное; аномальным иногда называют также неправильное, ненормальное…» [Кондаков 1975: 41]. Тем самым термины «аномалия» и «отклонение от нормы» являются дублетами. Применительно к языку исследователи пишут о языковых аномалиях, под которыми понимают «…те случаи отклонений от нормы, для которых достаточно легко предложить стандартный способ выражения в языке», поэтому фигуры мысли к языковым аномалиям не относят, так как к ним трудно подобрать «нормативный прообраз», или «нулевое» выражение [Кобозева, Лауфер 1990: 126]. Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелев лингвистически аномальными («подлинно языковыми аномалиями») не считают высказывания, направленные на передачу необычного (аномального с точки зрения бытовой логики) содержания [Булыгина, Шмелев 1990: 105]. Следовательно, термин «аномалия» в такой его трактовке является более узким по сравнению с отклонением от нормы. О языковых аномалиях пишет и Т. Б. Радбиль. Собственно языковой аномалией («семиотической», в модусе «текст»), по мнению исследователя, «…может считаться только порождение языкового знака с нарушением правил, установленных в данной семиотической (в нашем случае – языковой) системе». Искажения же в словесном знаке связей и отношений объективной реальности исследователь называет «аномалиями в модусе "реальность"» [Радбиль 2005: 54]. Однако, поскольку термин «аномалия» используется Т. Б. Радбилем в отношении обоих модусов (модуса «реальность» и модуса «текст»), можно утверждать, что и в том и в другом случае описываются отклонения от нормы (хотя и разного типа), что, в свою очередь, также свидетельствует о дублетном характере лингвистических терминов «аномалия» и «отклонение от нормы». Это подтверждает и то определение языковой аномалии, которое Т. Б. Радбиль дает в монографии «Языковые аномалии в художественном тексте…»: «В общем виде под языковой аномалией в данной работе понимается любое нарушение нормы или правила употребления какой-то языковой или текстовой единицы, речевого стереотипа, принятого в узусе, общего принципа коммуникации или поведения в целом, нарушение "обманутого ожидания" читателя и т.п.» [Радбиль 2006: 59]. В то же время, справедливо отмечая, что аномальность обязательно зависит от точки отсчета, он пишет: «…как нам кажется, вообще за пределы 98
языковой аномальности должны быть выведены многочисленные тропы и фигуры и шире – многообразный фонд языковой образности фольклора и литературы (особенно поэзии), которые поддаются рациональной интерпретации и воспринимаются психологически достоверными» [там же: 14]. Однако при широком понимании аномальности как любого отклонения от стандарта фигуры, тропы не должны выводиться за ее пределы. Таким образом, существует широкое и узкое понимание аномалии. При широком осмыслении аномалиями называют любые отклонения от той или иной нормы (стандарта), при узком – отклонения от нормы языка (правил употребления языковой, текстовой единицы). Термин «девиация», как и «аномалия», используется в значении «отклонение от нормы»73. Тем самым термины девиация, аномалия и отклонение от нормы можно считать триплетами.
1.2. Типология отклонений от нормы и понятие риторического приема; дискуссия о целесообразности / нецелесообразности использования идеи отклонения при определении фигуры / приема По мнению Н. Д. Арутюновой, для отклонений от нормы характерны следующие противопоставления: 1) возможность / невозможность превращения отклонения в норму; 2) градуированность / неградуированность отклонений; 3) позитивность / негативность отклонений; 4) престижность / непрестижность отклонений; 5) сознательность / нечаянность отклонений (в сфере человеческих действий); 6) предсказуемость / непредсказуемость отклонений (в сфере поступков); 7) опасность / безопасность нарушений нормы [Арутюнова 1987: 8]. Следовательно, можно говорить о нескольких основаниях классификации отклонений. В соответствии с первым противо73
См., напр., в таких контекстах: «В рассказах Н. А. Тэффи довольно часто наблюдается отклонение от нормы в сочетаемости слов – семантические девиации» [Петрова 2004б: 228]. Термин «девиация» как выход за рамки нормы (эстетической, культурной или нравственной) употребляется в работе [Пронина 2002]. 99
поставлением выделяют приемы, сводимые к стандартной семантике, и приемы, не сводимые к таковой [Арутюнова 1998: 89; Булыгина, Шмелев 1997: 442]. Третий и седьмой критерии особо актуализируются в процессе решения вопроса о мотивированности / немотивированности употреблений внелитературной лексики (диалектной, жаргонной) и лексики, заимствованной из других языков. Наименее разработанным является противопоставление отклонений по степени их градуированности. Общепринятыми можно считать типологии отклонений от нормы, основанные на пятом и третьем критериях («сознательность / нечаянность» и «позитивность / негативность», другими словами, «целесообразность / нецелесообразность»). Это разделение отклонений на речевые ошибки и приемы. Одной из самых значимых работ, посвященных типологии отклонений от норм на основе критерия наличия или отсутствия целесообразности, является статья Л. Н. Мурзина «Норма, речевой прием и ошибка с динамической точки зрения», опубликованная в 1989 году. В этой статье исследователь пишет: «…мы должны пересмотреть наши привычные представления о норме и ненорме в языке, сделать переоценку ценностей. Говоря об отступлениях от нормы, мы нередко вкладываем в этот термин пренебрежительный смысл, и поэтому всякое отклонение от нормы отождествлялось с ошибкой, безоговорочно осуждаемой в любое время и при любых обстоятельствах» [Мурзин 1989: 9]. Отступления от нормы он подразделяет на два типа: приемы и ошибки. И те и другие одинаково принадлежат антинорме, но главное отличие ошибок – отсутствие целесообразности. Сейчас этот критерий разграничения приема и ошибки (наряду с критерием «преднамеренность / непреднамеренность» нарушения) можно считать общепринятым, так как он прослеживается в целом ряде работ (см., напр.: [Антонов 2003; Виноградов 1996; Голуб 1999; Пекарская 2002]). Существует несколько подходов к типологии «отрицательных» (негативных, нецелесообразных) отклонений от нормы. Первый подход связан с типологией речевых ошибок как прагматически не мотивированных отступлений от нормы по языковым уровням. В рамках этого традиционного подхода выделяются орфоэпические, акцентологические, лексические, фразеологические, грамматические ошибки, а также с учетом письменного оформления речи – ошибки орфографические и пунктуационные. Ценность такой классифика100
ции, по мнению С. И. Виноградова, заключается в ее соотнесенности с системой языка, недостаток же – причисление к одной группе «…фактов с очевидно разным нормативным статусом – скажем, собственно литературных и находящихся за пределами литературного языка языковых средств…». Поэтому такая классификация должна быть, как считает исследователь, дополнена типологией отступлений от нормы на основе уровней манифестации языковой нормы. Таких уровней он выделяет четыре: 1) уровень состава языковых единиц; 2) уровень комбинаторики и сочетаемости; 3) уровень дистрибуции языковых единиц, т.е. возможности их употребления в текстах и ситуациях определенных типов; 3) уровень эталонной языковой единицы [Виноградов 1996: 127-130]. С. И. Виноградова пишет, что в комбинаторике (на разных языковых уровнях) существует четыре типа отклонений от нормы: добавление, сокращение, перестановка, замена. Примерами добавления, по ее мнению, могут служить протетические вставки (вострый), эпентезы (компентенция), включение во фразеологизмы изначально не входящих в них слов (отдать должную дань), избыточная аффиксация (навряд ли) и т.д.; примерами сокращения – редукция, стяжение, утрата звуков (ваще, рупь), опущение компонентов фразеологизма (раскинуть вместо раскинуть умом), пропуск соотносительного слова в сложноподчиненном предложении (опоздал по причине, что электричка не пришла) и др.; примерами перестановки – метатеза (друшлаг, тубаретка); примерами замены – замены звуков (колидор, перьвый), аффиксов (лимоновый, взад), слов во фразеологизмах (пока суть да дело вместо пока суд да дело), грамматических форм в определенных синтаксических позициях (я согласный) и др. [КРР 1998: 369]. Примеры, приводимые С. И. Виноградовым, являются непреднамеренными отступлениями от нормы и, следовательно, квалифицируются как речевые ошибки. Вместе с тем заметим, что эти же механизмы лежат в основе позитивных (преднамеренных и прагматически мотивированных) отклонений от нормы – различных тропов и фигур речи, что было отмечено еще во времена античности. Предложенные исследователями описания отклонений от норм не отвергают, а существенным образом дополняют друг друга. Проблема классификации прагматически мотивированных отклонений от нормы (тропов, фигур и других приемов) будет рассмотрена нами далее во второй части работы. Здесь же отметим, что 101
в энциклопедическом словаре-справочнике «Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты» количество словарных статей, посвященных разного рода приемам, значительно превышает число статей, описывающих речевые ошибки, что, в свою очередь, связано с исторически сложившейся обширной терминологической номенклатурой в области элокутивных средств и описательным характером многих речевых ошибок в эрратологии (ошибковедении). Любые отклонения от обыденной, нейтральной речи со времен античности именовались «фигурами речи», или позже «стилистическими фигурами». В. И. Корольков в семидесятых годах писал, что «…"традиционная" литература, посвященная фигуре, содержит чрезвычайно неполное и неточное изображение того, что наблюдается в речевой практике говорящих и пишущих» [Корольков 1973: 62]. Это высказывание справедливо и по отношению к началу ХХI века. Термин «фигура», как и другой более широкий термин «стилистический прием», не покрывает все существующее в современной речевой практике многообразие различного рода отклонений от нормы в ее современном понимании. Например, приемы, на которых основан комический эффект в текстах, приведенных ниже, не укладываются в существующие классификации тропов и фигур: Звонок в турагентство. - Вы Египет продаете?.. - Да, конечно, продаем… - Скажите, а какие курорты там есть? - Шарм-эль-Шейх, Хургада, Таба, Нувейба… - Во, стоп, Нувейба, точно, Нувейба подходит мне! - Когда вы собираетесь поехать? - Нет, мы тут кроссворд разгадываем, Нувейба подошла, спасибо! (Всем… 07.10.2005). – Прием, основанный на отклонении от норм речевого поведения в стандартной ситуации разгадывания кроссворда, что повлекло за собой нарушение критерия ситуативной уместности в процессе телефонного диалога. Или из сборника «Приметы и суеверия» Григория Остера: Прыгнувший со шкафа летит недолго; Выпавшие зубы чистить поздно (Г. Остер. Школа ужасов). – Прием, основанный на противоречии между содержанием данных высказываний, сообщающих известные факты и потому являющихся отклонениями от постулата информативности, и нашими представлениями о приметах как явле102
ниях, которые в результате длительных (порой многовековых) наблюдений считаются предвестием чего-либо. Аналогичный пример: Народная примета: Пришел ноябрь – жди декабрь (Всем… 04.11.2005). Поэтому возникла необходимость терминировать прагматически мотивированные отклонения от норм различного типа и дать им родовое наименование, предприняв тем самым попытку заполнить терминологическую лакуну в системе элокутивных понятий и терминов. В качестве родового (гиперонимического) понятия по отношению к тропам, фигурам (фигурам речи, стилистическим фигурам) и другим прагматически мотивированным отклонениям от нормы нами в соавторстве с А. П. Сковородниковым было предложено понятие риторического приема [Сковородников, Копнина 2002; КРР 2003: 598-602]. Термин «риторический прием», несмотря на его широкое употребление74, не имеет однозначного толкования. РП определяют как: 1) «способ привлечения внимания к коммуникативной установке нового типа или к коммуникативной установке сходного типа, но противоположной по своему конкретному наполнению. Например, переключение внимания от установки "на наблюдение" к установкам "на рассуждение" или "на действие"» [Хазагеров, Ширина 1999: 96-97]; 2) прием, главная функция которого – речевое воздействие [Никитина, Васильева 1996: 41]; 3) прием, не обладающий «выраженными конструктивными чертами» [Галиб 1994: 127]; 4) один из способов реализации коммуникативно-речевой тактики, ее элемент [Михальская 1998б: 87]. А. К. Михальская в словаре «Педагогическое речеведение» справедливо указывает, что РП описаны пока только фрагментарно и еще нуждаются в исследованиях и классификации [там же]. Возмож74
Этот термин используется в работах: [Галиб 1994: 87; Дюбуа и др. 1986: 49; Захарова 1983: 23; Иссерс 1999: 11; Лебединская 1992; Никитина, Васильева 1996: 41; Норман 1994: 48; Стернин 2002: 88; Сурикова 2004: 494; Хазагеров, Ширина 1984: 97; Хазагеров 2002: 87; Ширина 1995: 30] и др. Термин «риторический прием» встречается и в более ранних источниках. Так, третья часть «Компендиума по риторике» Слуцкого (1629-1631) носит название «Компендиум риторический, представляющий специальную риторику, в которой речь идет об употреблении риторических приемов». См. об этом сочинении в кн. [Вомперский 1988: 22-26]. 103
но, поэтому в специализированных словарях и справочниках представлены определения терминов прием (см., напр.: [Новиков, Шкловский 1998: 228; Тимофеев, 1974: 294]), стилистический прием, прием литературный (см., напр., [ЛитЭС 1987: 304-305]), термин же «риторический прием» обычно не разъясняется. При определении понятия РП может быть использована идея преднамеренного и мотивированного отклонения от нормы, которая ранее традиционно использовалась применительно к фигурам. Например, Квинтилиан писал: «…фигура в точном смысле слова определяется как сознательное отклонение в мысли или выражении от обыденной и простой формы [Античные теории… 1996: 276]. У Цецилия «фигура есть уклонение мысли и выражения от присущей им природы» [там же: 276]75. Из старых русских риторик можно привести определение фигуры А. С. Никольского: «Фигура есть известный способ изображать мысли отменным от простого и обыкновенного расположением или слов или мыслей, к возвышению, красоте или приятности слова служащим» (Цит. по [Русская риторика 1996: 113]). Ср. высказывания некоторых современных исследователей из лексикографических источников: фигуры – «особые стилистические обороты, выходящие за рамки практически необходимых норм…» [Квятковский 1998: 376]; «…в общем случае любые обороты речи, отступающие от естественной нормы» [ПР 1998: 267]; «обороты речи, отклоняющиеся от нейтрального словоупотребления и направленные на усиление выразительности высказывания» [Никитина, Васильева 1996: 141]76. Когда говорят об отклонении от «нейтральной» речи, «нейтрального» словоупотребления, то, очевидно, имплицитно имеют в виду отклонение именно от «нейтральной нормы», а не от нормы в целом.
75
Характеристика фигур речи в античности как «уклонения от нормы» дана в [БЭС 1998: 542]. 76 Аналогичным образом трактуются фигуры речи в зарубежном языкознании, напр.: «Фигуры речи – намеренное отступление от нормального 1) написания, 2) словообразования, 3) истолкования, 4) применения слова» (Dictionary of World Literary Terms / By J. Shipley) (Цит. по [Теоретическая поэтика 2001: 111]). 104
Именно мотивированность отклонения от нормы или ее нейтрального варианта – системообразующее свойство77 РП, так как свойство быть приемом (а не ошибкой) отклонение от нормы получает лишь в той или иной конситуации. В соответствии с таким пониманием РП мы не считаем, например, фигурой речи, а значит, и приемом, прономинализацию в следующей ее трактовке: «фигура речи, состоящая в замене имени существительного местоимением…», «прием ухода от тавтологии». Один из примеров: Пошел мокрый снег. Едва касаясь земли, он тут же таял (Ю. Нагибин) [Москвин 2006а: 247]. В данном случае замена существительного местоимением нормативна и служит средством связи. Важно отметить, что определение РП как прагматически мотивированного отклонения подчеркивает тот факт, что мы не причисляем к приемам любое нарушение нормы, ляпсусы и недочеты. Трактовка фигуры как способа преобразования речи, противоречащего «обычному», по мнению В. И. Королькова, восходит к имевшему место в античности и средневековье представлению о том, что «…"первоначально" существовала лишь речь обыденная, безыскусственная и что позднее, в ходе развития цивилизации, риторы и поэты постепенно стали "отклоняться" от принятого "обычного", "нормального" "способа выражения". Они начали "изобретать" некоторые искусственные приемы, которые якобы можно беспрепятственно вводить в речь и так же свободно устранять из нее. Подобная концепция распространялась не только на филогенетический, но и также на онтогенетический аспект проблемы: принято считать, что говорящий (пишущий) сначала непременно использует в качестве исходного "сырого материала" некое нефигуральное выражение, которое в дальнейшем подвергается соответствующему изменению». «Лишь постепенно, – пишет исследователь, – стало осознаваться, что тропеизация и фигурация речи, выступающие как результат определенных усиливающих п р е о б р а з о в а н и й мыслительно-
77
«С и с т е м о о б р а з у ю щ и е свойства – это присущие элементам свойства независимо от их участия в системе, формирующие внутрисистемные связи и отношения. Эти свойства являются проявлением качественной определенности объектов (элементов) данной системы и отражают их природу» [Солнцев 1977: 51]. 105
словесного "материала" возможны, но этот случай отнюдь не является правилом» [Корольков 1973: 65]. Один из аргументов, подтверждающих целесообразность отказа от трактовки фигуры «как уклонения от обыкновенного способа выражения», принадлежит М. А. Петровскому и звучит так: «…определение того или иного выражения как фигуры еще не означает, что наряду с ним мы представляем себе иное, не фигуральное, "простое" выражение той же мысли. Его может и не существовать в языке» (Цит. по [Корольков 1973: 66]). Так, в пословице «семь бед – один ответ», по мнению М. А. Петровского, эллипсис не является «…вариацией или преобразованием какого-то грамматически полного и правильного выражения той же мысли. Такое нормальное, "обыкновенное" выражение вряд ли удастся и придумать к этой фразе, как раз потому, что сама эта пословица является самым "обыкновенным" выражением содержащейся в ней мысли» [там же]. С утверждением исследователя об отсутствии в приведенной пословице эллипсиса можно поспорить. Ср.: семь бед, а один ответ / а ответ один. Такое преобразование пословицы позволяет увидеть в ней пропуск союза (асиндетон) и изоколон (конструкцию с полным синтаксическим параллелизмом). «Обычность» же выражения мысли связана с тем, что пословица в процессе речепроизводства возникает в готовом виде в силу ее конвенциональности. «Понятие фигуры, – пишет М. А. Петровский, – основывается на той предпосылке, что одна и та же мысль может быть высказана в разных словесных выражениях; эти словесные в а р и а ц и и, представляющие собой как бы (по определению Бэна) "уклонения от обыкновенного способа выражения", и именуются фигурами» (Цит. по [там же: 65]). Это высказывание исследователя противоречит приведенному выше, и в соответствии с ним М. А. Петровский вовсе не отказывается от понимания фигуры как «уклонения от обыкновенного способа выражения». Если развивать идею М. А. Петровского, то фигурацию речи, по мнению В. И. Королькова, можно было бы рассматривать не как факт преобразования некоего «исходного материала», а как результат выбора адресантом одного из двух вариантов построения фразы, более соответствующего целям и условиям акта коммуникации, нежели другой. Однако такая «теория предпочтений», как пишет исследователь, представляет собой «всего лишь видоизмененный и, можно надеяться, усовершенствованный вариант» «теории преобра106
зований»: «Ведь из двух взвешиваемых возможностей построения фразы, одна, "забракованная" и отброшенная, может быть, действительно, расценена как "исходный материал", тогда как другая, предпочтенная и отобранная, – как полученный в результате некоего "преобразования" продукт» [там же: 75]. Другими словами, «теория предпочтений» не отвергает «теорию преобразований»: сам факт преобразования свидетельствует о некоем предпочтении говорящего в выборе средств выражения. Точки зрения о нецелесообразности и даже невозможности использования идеи отклонения от нормы при описании фигур / приемов придерживаются и другие языковеды. Так, М. Риффатер пишет о том, что «…трудно представить себе, как можно использовать такое отклонение [он имеет в виду отклонения от языковой нормы. – Г. К.] в качестве критерия или хотя бы описать его». Он соглашается с мнением Жюйана, выдвинувшего, как отмечает исследователь, серьезные возражения против использования отклонения в качестве критерия стилистического анализа и считавшего, что «…отклонение от нормы – это нечеткое и даже двусмысленное явление, возникновение которого кроется где-то между сознательным намерением (стилем) автора и его автоматизмом (который включает в себя ненамеренные ошибки, механическое подражание или самоподражание)». М. Риффатер, со своей стороны, пишет: «Дело не в том, что языковая норма фактически неопределима, а в том, что она нерелевантна. Она нерелевантна потому, что читатель основывает свои суждения (а автор свои приемы) не на какой-то идеальной норме, а на своем индивидуальном понимании принятой нормы (то есть на том, что "сказал бы" читатель, будь он на месте автора)» [Риффатер 1980: 84]. Роль нормы, по мнению М. Риффатера, играет контекст как лингвистическая модель, внезапно нарушаемая непредсказуемым элементом. Некая же «общая норма», рассуждает он, не годится, поскольку: 1) «даже относительно стабильное состояние языка является ареной трансформаций»; 2) необходимо учитывать не только среду, окружающую писателя, его литературные связи, но и норму письменной речи; 3) существует т.н. «подражательная письменная норма», которую использует писатель, чтобы создать представление о субстандартной речи как характеристике персонажа [там же: 85]. Таким образом, М. Риффатер, с одной стороны, провозглашает, что динамический характер языка, языковой нормы и существование норм разного типа не позволяют описывать отклонения от нормы как 107
критерий идентификации стилистических приемов, а с другой стороны, сам же предлагает использовать контекст в качестве нормы, развивая тем самым идею множественности норм. Что же касается вопроса об отношении фигур речи и других приемов к языковой норме (сознательное отступление от нормы или нормативное явление?), то «этот вопрос, – пишет А. П. Сковородников, – как будто снимается введением понятий "нулевой ступени" литературности, "отклонения" и "редукции отклонения" (Дюбуа, Эделин. Общая риторика), которые позволяют рассматривать синтаксическую фигуру в пределах языковой нормы как целенаправленную моделируемую модификацию нейтральной синтаксической структуры (отклонения от нулевой ступени литературной нормы) с экспрессивной значимостью» [Сковородников 1988: 147]. Против использования отклонения от нормы в качестве критерия идентификации и классификации фигур выступает также В. П. Москвин, который пишет: «Теория отклонения от нормы не может помочь при упорядочении всего разнообразия фигур, причисляемых к акцентирующим…». И далее в сноске к цитате А. П. Квятковского читаем: «На самом деле многие фигуры речи не имеют отношения к каким бы то ни было отклонениям от нормы (в частности, сравнение, антитеза, приемы ухода от тавтологии и др.)» [Москвин 2006а: 44]. Все зависит от того, как понимать фигуру. Если традиционно как отклонение от нормы, то, конечно, сравнение не всегда является фигурой (поскольку сравнение – стандартная логическая операция). Ср.: 1) Появился в лабиринте станков и начальник участка Арсений Самойлович – носатый, высокий и толстый, с жидкими, как у младенца, волосиками на удлиненном черепе (Ю. Аракчеев. Подкидыш) – сравнение явлений одного онтологического класса; 2) Своим видом и манерами они [книги и пособия по изучению иностранных языков. – Г. К.] напоминают девиц определенного поведения, навязчиво предлагающих вам свою «истинную и ни с чем не сравнимую любовь» на продажу. Причем девиц весьма низкого пошиба! (Н. Замяткин. Вас невозможно научить иностранному языку); …дорогой итальянский смеситель на фоне отстающего от стен василькового кафеля советской поры напоминал золотой зуб во рту у прокаженного… (В. Пелевин. Generation «П») – сравнение разнородных объектов (объектов разных онтологических классов). Только во втором случае перед нами РП. Чем больше отдаленность сравниваемых предметов, тем сильнее производимый на адресата эффект, 108
поскольку происходит отклонение от ассоциативной нормы, свойственной большинству носителей языка. Воздействие усиливается, если омойосис (одно из наименований сравнения78) «накладывается» на другие приемы, например на олицетворение, как в илл. 2, приведенной выше. В антитезе происходит совмещение антонимов, сопровождающееся синтаксическим параллелизмом, или совмещение ненейтральных антонимов, что отличает этот прием от логического противопоставления, напр.: У них (на Западе. – Г. К.) нищие – это отбросы общества, у нас – это сливки (СГ. 06.02.1999); Как известно мужчины бывают женатые и холостые. Среди холостых есть одинокие и неодинокие (СГ. 25.04.1998); Все самое легкое и самое тяжелое, самое нежное и самое твердое пошло на эти подарки (Л. Улицкая. Дар нерукотворный). Как и в случае сравнения, не всякое противопоставление (совмещение антонимов в речи) является отклонением от нормы, напр.: Эта книга была не черного, а белого цвета (вполне нормативная конструкция). Другой аргумент противников теории отклонения заключается в том, что читатель не исходит обычно из какой-то нулевой (нормативной) позиции, а просто «проглатывает» фигуру. Отвечая на этот распространенный аргумент, неориторы, как отмечает Н. А. Безменова, выделяют несколько разновидностей прочтения текста: прочтение наивное, прочтение культурное, прочтение ученое и прочтение эстетическое. «Теория отклонения, принятая с указанными поправками, имеет, как подчеркивают льежцы, определенные недостатки, но представляет некую экспликативную модель, так как определить троп как изменение смысла высказывания недостаточно, следует определить прямой смысл метафорического члена. Такое определение невозможно без трансформации высказывания в какойто эквивалент. Процедура преобразования может быть сильно затруднена, если рассматриваемый текст отсылает к нескольким или к бесконечному множеству смыслов. Производство множественного
78
Сравнение не должно быть очевидным. Александрийский грамматик Трифон классифицировал сравнения на основании различий в содержании сопоставляемых компонентов и степени их отдаленности друг от друга. Разным типам неочевидных сравнений Трифоном присваивалось родовое понятие – омойосис (у Аристотеля – эйкон) (см. об этом [Щаренская 2004: 89-92]). 109
смысла радикализует конструктивный прием риторического образования» [Безменова 1991: 129]. Появление в речи ненормативных фактов обусловлено конструктивным механизмом организации сложных систем: «Если обратиться к функционированию мозга, то можно увидеть сосуществование хаоса и порядка, что удерживает данную систему в неравновесном положении, которое в свою очередь будет детерминировать ее изменение». Более того, «нейрофизиологические исследования свидетельствуют о том, что хаос (ограниченный, или детерминированный) в организме человека жизненно важен. Он создает возможность четко реагировать на изменившиеся внешние условия, надлежащим образом действовать и творить» (курсив наш. – Г. К.) [Самигулина 2007: 108]. Причем исследователи отмечают, что логические вербальные, парадигмальные "табу" оказываются более сильными для левополушарного мышления [там же]. Посмотрим, к чему приводит отказ от понимания фигуры (и – шире – приема) как отклонения от нормы (в том числе от ее нейтрального варианта). В. И. Корольков приходит к «предварительным» (как он их сам называет [Корольков 1973: 85]) соображениям, согласно которым фигуры существуют в двух противоположных разновидностях (вариантах, «модусах»): «минус-фигуры», составляющие немаркированный член оппозиции, и «плюс-фигуры», составляющие маркированный член оппозиции [там же: 76]. Однако описываемые им далее оппозиции имеют разный характер. В частности, как члены оппозиции рассматриваются асиндетон (вид бессоюзия, опущение сочинительных соединительных союзов между однородными членами: «Швед, русский колет, рубит, режет…») и полисиндетон (вид многосоюзия: «И пращ, и стрела, и лукавый кинжал щадят победителя годы»), с другой – отсутствие «предложного тождесловия» (однократное использование предлога перед однородными членами: «Он рассказывал о своих друзьях и знакомых») и «предложное тождесловие» (многократное повторение предлога перед однородными дополнениями: «Кто бы нам сказал про старое, про старое, про бывалое, про того Илью, про Муромца»). Между тем в одном случае оба члена оппозиции – и асиндетон, и полисиндетон – являются маркированными (стилистически окрашенными, создающими экспрессию), в другом же – первый член оппозиции стилистически не маркирован (нейтрален), а второй – стилистически маркирован (ср.: Кто бы нам 110
сказал про старое, бывалое, про того Илью Муромца). Тем самым «минус-фигурой» В. И. Корольков именует как стилистически окрашенные варианты, так и варианты нейтральные (варианты без той или иной фигуры). См., например, такие оппозиции в его таблице: отсутствие зевгмы – зевгма, отсутствие омойтелевтона – омойтелевтон, отсутствие лексически точных повторов – лексически точный повтор и другие [там же: 79]. Конечно, если принимать точку зрения, согласно которой фигура – это любое средство выражения (в том числе «минусфигура»79), то получается, что, как писал Квинтилиан, «…не остается ничего такого, где бы не было фигуры» [Античные теории… 1996: 276]. Таким пониманием фигуры объясняется, очевидно, подразделение А. А. Ворожбитовой фигур речи на фигуры риторические (стилистические)80 и фигуры грамматические (нейтральные) [Ворожбитова 2000: 245]. В связи с этим уместно привести следующее высказывание В. Н. Топорова: «В лингвистич. теории текста под Ф. р. можно понимать любую практич. реализацию в р е ч и предусмотренного я з ы к о м набора элементарных синтаксич. типов, образующего парадигму, особенно если эта реализация принимает вид, отличный от признаваемого стандартным (ср., например, мену порядка слов и т.п.). В этом смысле нейтральному тексту соответствуют нейтральные Ф. р., т.е. практически элементарные синтаксич. типы». Далее исследователь говорит все же о том, что фигуры речи лучше понимать более узко: «Но более целесообразным практически и более важным теоретически представляется определение ядра Ф. р., или того локуса, в к-ром Ф. р. находится в "сильных" условиях, когда элементы языка наиболее наглядно становятся Ф. р. К типичным ситуациям "порождения" Ф. р. относится любое употребление 79
Ср. также: фигуры стилистические – «...обычные, "естественные" способы выразит. возможностей языка, применяемые говорящим (пишущим) при осуществлении конкретных актов речи и являющиеся одним из важнейших компонентов индивидуального стиля» [БСЭ 1977: 333]. 80 Термины «риторическая фигура» и «стилистическая фигура» не всегда употребляются как синонимические. Термин «риторическая фигура» в узком смысле используется для обозначения тех фигур, в названии которых закрепился термин риторический, – риторического вопроса, риторического обращения, риторического восклицания [Василькова 1990: 5; Квятковский 1998: 288]. 111
данного языкового элемента в непервичной функции (синтаксич. и семантич.). Речь может идти как об отд. элементе (ср. "мы" в значении 'я' или "пошел" в значении 'уходи!'), так и о сочетании элементов, противопоставленном некой нейтральной форме передачи того же смысла или порождающем новый смысл, несводимый к механич. сумме смыслов элементов, составляющих сочетание (случай тропов). В обоих случаях Ф. р. предполагает выбор более богатого (специфического) с теоретико-информационной т. зр. типа выражения, к-рый и образует р е ч е в о й ж е с т, выступающий как элемент организации текста более сложного, чем нейтральный» [БЭС 1998: 542]. Отказ от теории отклонения приводит к тому, что главным для идентификации приема и фигуры объявляется не структурный, а функциональный критерий. Поэтому в определении РП (у него – синонима риторической фигуры) В. П. Москвина признак отклонения отсутствует. РП он определяет как фигуру речи, используемую «…для воздействия на аудиторию, т.е. как прием красноречия либо в полемических целях» [Москвин 2006а: 275]. Фигура есть «…акт использования языка в целях усиления выразительности речи или воздействия на адресата…», – пишет исследователь [там же: 332]. В результате в его работах традиционные тропы и фигуры ставятся в один гипонимический ряд с различного рода речевыми тактиками, речевыми актами, психологическими способами воздействия на адресата, полемическими уловками, речевыми жанрами, т.е. происходит объединение в одну группу феноменов разной речевой природы. Такое объединение осуществлялось в античности, а затем в Средневековье, когда фигур насчитывалось уже несколько сотен, однако впоследствии исследователи стали убирать из классификаций фигур явления иной природы. И вот сейчас снова возникают попытки объединить разнородные явления под термином «фигура речи». Между тем для РП / фигуры отклонение от нормы – признак абсолютный (обязательный), в отличие от, например, речевой тактики, для которой он относителен (см. об этом далее). Отказ от идеи отклонения приводит к выдвижению на первый план функционального критерия классификации фигур. Непродуктивность этого критерия при общей классификации можно объяснить тем, что прямой зависимости между приемом и функцией не существует, в чем легко убеждаешься при сравнении описанных в диссертационных работах стилистических функций различных приемов. Одна и та же функция может быть свойственна многим 112
приемам, и, наоборот, один и тот же прием в разных контекстах может выполнять различные функции (то, что воздействие фигур меняется в зависимости от контекста, заметил, в частности, Анри Миттеран (см. об этом [Дюбуа и др. 1986: 35])). Более того, в некоторых случаях прием способен выполнять одновременно несколько функций, в результате чего соблюдение единого основания в процессе классификации оказывается затруднительным. Системной может считаться та классификация, основания которой осмыслены, в свою очередь, с точки зрения системного подхода. В противном случае складывается ситуация, когда элемент системы не имеет строго закрепленного за ним места. Так, в классификации фигур В. П. Москвина, являющейся, по сути дела, функциональной (основное предназначение выразительных средств и приемов исследователь видит в выполнении либо нарушении качеств речи), гиперонимизация способствует разнообразию речи и в то же время нарушает ее точность, т.е. одновременно оказывается в двух разных группах. Основная задача лингвиста, изучающего приемы – объяснить механизм их образования, построения и на основе этого описать воздействующий потенциал. Полагаем, что решение этой задачи возможно, если не отказываться от теории отклонения и системно осмыслить понятия «норма» и «отклонение от нормы». На современном этапе развития теории элокуции РП могут быть рассмотрены как результат прагматически мотивированного отклонения от нормы или ее нейтрального варианта на фоне четко осознаваемой нормы. Именно отклонением объясняется непредсказуемость приема и производимый им эффект81. Если в родовое понятие нормы включить не только норму языковую (в ее традиционном лингвистическом осмыслении), но и нормы других типов (логическую, нормы речевого этикета и т.д.), то риторический прием можно определить как осуществляемое в речи мотивированное целеустановкой говорящего / пишущего и условиями общения (контекстом и/или ситуацией) отклонение от нормы (в широком понимании) или ее нейтрального варианта с целью оказания определенного воздействия на адресата. При
81
О непредсказуемом характере стилистического приема см., напр.: [Ветвинская 1975: 72-73; Гальперин 1974: 151; Риффатер 1980: 85-87]. 113
этом мотивированность может быть как стилистической, так и – шире – риторической. В научной литературе можно встретить термины «коммуникативный прием», «художественный прием», «ораторский прием», «конструктивный прием», «стилистический прием». Мы не будем пользоваться ими в силу следующих причин. Коммуникативными приемами называют, например, сообщение, описание, объяснение, сравнение, обобщение, утверждение [Анисимова 1987: 8] – те феномены, которые не являются объектом нашего исследования. Термин «художественный прием» используется для обозначения наименования стилистических приемов, композиционных приемов, фразеологических сочетаний и т.д. в произведениях художественной литературы. Риторические же приемы представлены в текстах разной функциональной принадлежности. Термин «ораторский прием», представленный в словаре С. Е. Никитиной и Н. В. Васильевой [Никитина, Васильева 1996: 26, 121], также ограничивает (в силу своей семантики) употребление стилистических приемов, фигур, но уже сферой ораторских (монологических) текстов. Конструктивный прием Н. В. Данилевская определяет так: «…вид семантических отношений между основными смысловыми элементами логического единства, выступающий как средство с т ил и с т и ч е с к о й выразительности и соответствующий определенной структурно-смысловой целостности дискурса». И далее она пишет: «Конструктивные приемы, так же как риторические фигуры , относятся к средствам выразительной речи, с той лишь разницей, что (в отличие от них) отражают структурные схемы, лежащие в основе с т и л и с т и ч е с к и х приемов» [СЭС 2003: 175]. К конструктивным приемам Н. В. Данилевская относит такие разнопорядковые явления, как: – простое перечисление, прием последовательного добавления (объяснения понятия путем перечисления его разных признаков), прием аккумуляции (нагромождения), логическое следование (перечисление с логическим выделением связующих элементов), вопросно-ответный ход, прием динамического перечисления (быстрая смена коротких синтаксических конструкций с лексическими повторами, обеспечивающими актуализацию логических связей предложений) – приемы, используемые «для последовательного развертывания смыслового единства»; 114
– прием параллелизма, прием разделения (логического деления понятия), прием рамки (охвата), прием контраста (противопоставления), концессия (говорящий сначала соглашается с оппонентом, но затем наносит контрудар), напряжение («прием группировки в нарастающей последовательности… однотипных фактов, положений, доводов с тем, чтобы затем резко противопоставить им факт или положение совершенно иного рода, совершенно иной значимости»), прием дилеммы (логическое единство, построенное по схеме или… или…) – приемы, используемые «для параллельного развертывания смыслового единства» [там же: 176-179]. Недостаточно упорядоченный перечень выделяемых исследователем типов приемов, как и дефиниция термина, на наш взгляд, свидетельствуют о недостаточной четкости границ самого понятия конструктивного приема. Наименование приемов риторическими не означает их употребления лишь в пределах ораторских текстов и не имеет какоголибо их функционального (с точки зрения выполняемых функций) ограничения. Выбор прилагательного риторический в составе сочетания риторический прием обусловлен тем, что термин «речевой прием»82 предполагает его противопоставление «языковому приему». Так, И. В. Пекарская считает, что фигуры (в их широком понимании, включая тропы) могут быть подразделены на риторические (связанные с эмоциональностью речи) и нериторические. В рамках и тех и других она выделяет оппозицию «языковые фигуры» – «речевые фигуры». «Языковая фигура» определяется как «…осознанное, прогнозируемое отклонение от языковой модели по особому принципу в соответствии со схемой отклонения с целью создания прагматического эффекта»; «речевая фигура» – как «...намеренное или ненамеренное, но целесообразное отклонение от нормативного речевого высказывания по особому принципу (в ряде случаев неосознаваемому) без специальной схемы отклонения от речевой нормы с целью создания прагматического эффекта или без расчета на него» (речевая норма при этом отождествляется с узусом) [Пекарская 2002: 26]. Любой рассматриваемый нами РП представляет собой явление речевое, так как отклонение от нормы или ее нейтрального варианта осуществляется в процессе функционирования языка. Поэтому изу82
Термин «речевой прием» как сознательное отклонение от языковой или речевой нормы используется в статье [Крысин 2004: 95-96]. 115
чаемые нами приемы можно назвать речевыми, подчеркивая тем самым их онтологическую сущность. Понятие приема может быть осмыслено и более широко как любое (а не только речевое) мотивированное отклонение от нормы, в том числе при использовании жестов, мимики, позы, передаче зрительного ряда и т.д.83 В таком случае изучаемые нами приемы могут быть рассмотрены лишь как разновидность приемов, для гиперонимического наименования которых нет соответствующего эпитета. В современной лингвистике отсутствует устоявшаяся терминосистема для обозначения мотивированных отклонений от нормы. Так, функционально мотивированные отклонения от «общеязыковых норм, собственно нормы текста и вероятностных характеристик текста» называют «стилистическим приемом», «выдвижением» [Ветвинская 1975: 72]; от грамматических норм – вслед за Н. Хомским – «полуотмеченными структурами» [Золина 1977: 8; Шендельс 1969: 168 и др.]; «отклонения от ожидаемой частотной модели» терминируют как «дефлексия» (deflections) [Хэллидей 1980: 131]; от стандартной синтаксической структуры – как «синтаксическая девиация» [Букина 1988: 82]; отклонения от нормы в сочетаемости слов называют «семантическими девиациями» [Петрова Л. А. 2004: 228]; любые изменения какого-либо аспекта языка представители Льежской школы неориторики называют «метаболой» [Дюбуа и др. 1986: 56]; отклонения от норм языка, допускаемые в художественной прозе и поэзии из соображений стиля, ритма и размера именуют вольностью [Ахманова 2004: 84]. Применительно к отклонениям от разного рода
83
В этом отношении интересна публикация Э. М. Береговской и Ж.-М. Верже [Береговская, Верже 2000], где различного рода фигуры иллюстрируются не только языковыми примерами, но и в виде рисунков, фотографий. О жестовых тропах можно прочитать в [Крейдлин 2004: 76-78]. Не менее интересна книга М. Н. Дымшица «Манипулирование покупателем», где описываются визуальные методы рекламы: повторение, добавление, убавление и др. [Дымшиц 2004: 113-117]. (Ср. эти методы с принципами построения фигур, традиционно положенными в основу большинства их классификаций). Думаем, что здесь будет уместно привести мнение В. Г. Костомарова о том, что тексты в массмедиа все шире обращаются к любым «внеязыковым коммуникативным приемам» и что «…царство экспрессем все очевиднее тяготеет к невербальности, изобразительности, динамике, музыке» [Костомаров 2005: 192]. 116
стереотипов, стандартов используют также термин «аномалия» [Апресян 1990; Бабенко 2007 и др.], о котором мы уже говорили выше.
1.3. Принципы построения риторических приемов: определение понятия и проблема классификации Со времен античности и по мере развития риторики наблюдается переход от описания непосредственно наблюдаемых речевых приемов, классификации фигур речи в их широком осмыслении (включая тропы) к познанию принципов организации РП, то есть к пониманию их единства и целостности, а значит системности84. Перенос акцентов с вопросов формальной классификации на поиски конструктивного принципа системной организации, по мнению А. П. Сковородникова, есть наиболее целесообразный путь исследования стилистических средств [Сковородников 1981: 148]. Принцип – понятие абстрактное, фиксирующее сущность явления в обобщенной форме, но по содержанию не отходящее от речевой действительности [Сидоров 1987б: 134]. Применительно к интересующим нас явлениям это понятие используется в двух значениях: 1) принцип как закон, связь (взаимозависимость) между функциональными элементами системы (системы экспрессивных синтаксических конструкций) [Сковородников 1981: 194] и 2) принцип как особенность построения языковой / речевой единицы, в том числе особенность устройства стилистического средства, стилистической фигуры [Пекарская 1999: 121; Кузнецова 2003: 10]. Принципы построения тропов и синтаксических конструкций, в том числе фигур, отражены в различных классификациях фигур речи (в широком понимании, включая тропы), обзор и анализ которых представлен в диссертационных исследованиях [Боженкова 1998; Василькова 1990; Галиб 1994; Василенко 1998 и др.]. Большой вклад в учение о принципах построения тех феноменов, которые имеют отношение к системе РП, внесли прежде всего 84
«…Термин "системный" означает ‘относящийся к принципам организации объекта как целостного функционального образования’ (т.е. не сводимого по своим общим свойствам только к свойствам его отдельных элементов или только к особенностям сети отношений между ними)» [Общее языкознание 1970: 30]. 117
такие исследователи, как Э. М. Береговская, А. П. Сковородников, И. В. Пекарская, А. А. Кузнецова. Каждый из этих исследователей изучал определенную микросистему экспрессивных явлений. А. П. Сковородников впервые описал явления экспрессивного синтаксиса русского литературного языка как особую подсистему, которая организована принципом экономии и принципом избыточности в языке. Типизированные модификации предложений и их частей как элементы экспрессивной синтаксической подсистемы имеют в языке одну и ту же предназначенность (экспрессивную) и противопоставлены друг другу по принципу оппозиции экономных структур и избыточных структур, которая является реализацией двух языковых антиномий: антиномии говорящего и слушающего и антиномии информационной и экспрессивной функций языка. Им описаны с точки зрения системного подхода эллипсис, антиэллипсис, усечение (апозиопезис), позиционно-лексический повтор и парцелляция. Эллиптические и усеченные конструкции (как экономные, сокращенные) противопоставлены конструкциям с антиэллипсисом и позиционно-лексическим повтором (как избыточным). Парцелляция рассматривается исследователем как нейтрализация противопоставления экономии избыточности (избыточности фразовой, создающей в высказывании дополнительные информационные центры, при сохранении, а значит – экономии, самой позиционной структуры предложения). Кроме того, указанные экспрессивные синтаксические модификации образуют парадигму. В рамках парадигмы основным принципом связи между экспрессивными синтаксическими конструкциями как системой А. П. Сковородников считает принцип градации, заключающийся в том, что ее члены представляют собой градационный ряд: они ранжированы ступенчато – от элементов с максимумом позиционной избыточности к элементам с максимумом позиционной экономии и наоборот. Эта градационная парадигма (ее члены чаще других выступают в текстах совместно) является центром поля экспрессивных синтаксических конструкций. На периферии поля, по мнению А. П. Сковородникова, располагаются два слоя: 1) бессоюзные конструкции, сегментированные конструкции, конструкции с антиципацией (эти явления имеют непосредственное отношение к проявлению антиномии экономия–избыточность, но не составляют оппозиций и менее предсказуемы в аспекте совместной встречаемости); 2) инверсия, риторический вопрос, восклицание, параллелизм (не 118
имеют непосредственного отношения к названной антиномии, не образуют оппозиций, не активны в отношении конвергенции, так как обладают разным диапазоном стилистических значений) [Сковородников 1981: 181-226]. По мнению Э. М. Береговской, все явления экспрессивного синтаксиса так или иначе связаны с принципом симметрии и асимметрии, действенность которого в языке или речи, по наблюдениям исследователя, отмечали Луи Мартен, С. О. Карцевский, Е. В. Падучева, В. Г. Гак [Береговская 2004: 9-16]. Все синтаксические фигуры делятся исследователем на три класса: 1) фигуры, которые усиливают экспрессивность текста, подчеркивая симметричность, изначально присущую той или иной структуре (редупликация, дистантный повтор, анафора, эпифора, анаэпифора, эпанафора, цепной повтор, асиндетон, полисиндетон, хиазм, антитеза, синтаксический параллелизм) – «синтаксис равновесия», или «синтаксис эквилибра»; 2) фигуры, которые тяготеют к асимметрии, так как усиливают эмоциональность текста, создают впечатление структурного хаоса путем «намеренной, акцентированной ломки языковой симметрии» (инверсия, риторический вопрос, эллипсис, фигура умолчания, сегментация с репризой и антиципацией, парцелляция) – «синтаксис нарушенного равновесия», или «синтаксис дезэквилибра»; 3) промежуточный класс, где симметрия и асимметрия действуют одновременно (зевгма, градация, деривационный повтор, полиптот, антанаклаза, гомеотелевтон) [там же: 199]. И. В. Пекарская, безусловно, права в том, что «поиски единых принципов, лежащих в основе построения тех или иных фигур, остаются актуальными и по сей день» и что необходимо построение классификации принципов [Пекарская 2000а: 159]. Ее опыт классификации принципов построения экспрессивных средств языка / речи представлен в монографии «Контаминация в контексте проблемы системности стилистических фигур русского языка» [Пекарская 2000а; Пекарская 2000б]. Все принципы И. В. Пекарская подразделяет на две группы – синтагматические (линейные, горизонтальные) принципы и парадигматические (столбичные, вертикальные) принципы. Синтагматические принципы (лежащие в основе построения «фигур слова»), как и парадигматические принципы (лежащие в основе построения «фигур мысли»), по мнению исследователя, могут быть общими и частными. Общие синтагматические принципы би119
нарны: принципы экономии – избыточности, симметрии – асимметрии. Общим парадигматическим принципом она считает принцип сравнения. К частным синтагматическим принципам И. В. Пекарская относит убавление / добавление, повтор, перечислительный ряд, перестановку, параллелизм, замену, расчлененность / нерасчлененность; к частным парадигматическим – сходство, контраст, алогизм, градацию. В этой системе изученный ею принцип контаминации является как частным синтагматическим, так и частным парадигматическим принципом [Пекарская 2000а: 188; Пекарская 2002: 28]. И. В. Пекарская тщательно описала подсистему синтаксических конструкций, построенных по принципу контаминации. Контаминация определяется ею как «принцип построения языковой и/или речевой единицы, основанный на совмещении в ней признаков двух (или более) языковых и/или речевых единиц, близких друг другу структурно, функционально или ассоциативно» [Пекарская 1999: 121]. При контаминации наблюдается либо синкретизм («гибридность», объединение), либо аппликация («наложение, интерференция»), либо смешение («соскальзывание» с одной структуры на другую) взаимодействующих структур [там же: 13]. К конструкциям экспрессивной синтаксической контаминации она относит анаколуф, апокойну и их разновидности. Эти фигуры в модели поля экспрессивных синтаксических конструкций современного русского литературного языка распределяются ею следующим образом: по оси избыточности эта модель дополняется конструкциями анаколуфного ряда (за исключением контаминированных конструкций с чужой речью, конструкций анантаподотона, в которых действует закон экономии); по оси экономии – конструкциями апокойнического ряда (за исключением апокойну 2 как конструкциями с двумя неоднородными дополнениями, определениями, обстоятельствами к одному управляющему слову) [там же: 72]. Апокойну 2 и смещенные конструкции контаминированного ряда располагаются на периферии поля. В дальнейшем И. В. Пекарская показала также, как принцип контаминации «работает» и на других уровнях языковой структуры – в фонетике, морфемике, морфологии, лексике [Пекарская 2000а: 35 и сл.]. Идеи названных исследователей получили дальнейшее развитие в работах А. А. Кузнецовой, которая, проанализировав реестры и классификации фигур в различных источниках, пришла к тому же выводу, что и И. В. Пекарская: в классификациях фигур не различа120
ются понятия стилистической фигуры и принципа ее построения [Пекарская 2000а: 164; Кузнецова 2005: 135]. Принципы с точки зрения их конструктивной роли она подразделяет на доминантные (ведущие, основополагающие, то есть такие, без которых фигура перестает существовать), и рецессивные (вспомогательные, дополнительные, усиливающие эффект доминантного принципа) [Кузнецова 2003: 16]. А. А. Кузнецова описала принцип синтаксического параллелизма в системе других частных принципов. По ее мнению, принцип синтаксического параллелизма – разновидность принципа повтора, который является организующим началом на всех уровнях языка. Повтор в ее классификации – принцип первого порядка, это «синтагматический принцип организации стилистических приемов, представляющий собой неоднократное появление в определенном отрезке речи языковой единицы на соответствующем лингвистическом уровне» [Кузнецова 2005: 138-139]. Поскольку на основе повтора могут быть организованы как избыточные, так и симметричные языковые средства, принципом второго порядка она называет избыточность и симметрию. Принципами третьего порядка А. А. Кузнецова считает синтаксический параллелизм, перечисление [там же: 138140]. Тем самым стилистические принципы образуют некую иерархию. По принципу синтаксического параллелизма строится ряд фигур: синтаксическая анафора, синтаксическая эпифора, синтаксическая анаэпифора, синтаксический хиазм, период, изоколон [Кузнецова 2003: 11]. А. В. Щербаков принцип градуальности называет семантическим принципом, а принцип перечислительного ряда – синтаксическим принципом [Щербаков 2006: 50]. Современные лингвисты выделяют также следующие частные принципы организации приемов, фигур: – принцип «объединения семантически неоднородных членов предложения, занимающих одинаковую синтаксическую позицию, как однородных» [Смолина 2004а: 6]; – принцип противоречия [Кожевникова 2005]; – принцип контраста [Егорченко 2002, 2006]; – принцип алогизма [Лелёкина 2002]; – принцип градуальности [Щербаков 2004: 6]; – принцип перечислительного ряда [там же]. 121
А. А. Кузнецова пишет, что «отклонение от языковой и/или речевой нормы осуществляется на основе того или иного стилистического принципа» [Кузнецова 2005: 138]. Считаем, что отклонение есть не что иное, как основной принцип построения РП85. Это принцип первого порядка. Принципами следующего порядка в таком случае являются те принципы, которые и пытаются систематизировать исследователи. Тем самым идея И. В. Пекарской о возможности выделения общих и частных принципов построения фигур является весьма плодотворной. В целом необходима упорядоченная типология принципов продуцирования РП, учитывающая как «исходные положения, правила, определяющие направление, в котором осуществляется отклонение от нормы» [Сковородников 2007а: 32] (например, симметрия – асимметрия, экономия – избыточность), так и способы (операторы), посредством которых осуществляется то или иное отклонение. Принцип отклонения, или девиации, обязателен для РП, так как характеризует его онтологическую сущность. Он свойственен и парадигматике, и синтагматике. В РП принцип отклонения – ведущий, основополагающий, или, по А. А. Кузнецовой, «доминантный» [Кузнецова 2003: 10].
1.4. О градационном шкалировании нормы и отклонении от нее Н. Д. Арутюнова отмечает, что норма на градационной шкале может занимать разное место. Рассматривая норму как некую точку отсчета, по отношению к которой определяются значения антонимов в рамках скалярно-антонимического комплекса, со ссылкой на Е. А. Поцелуевского она пишет: «Понятие нормы может отождествляться с частью шкалы, соответствующей одному из эквиполентных антонимов. Например, в паре тупой – острый второй член принима-
85
Ср. с иной точкой зрения, согласно которой «уклонение от нормы» – одно из художественных средств / приемов: «"Уклонение от нормы" отражается в нарочитой, преднамеренной квази-случайности внесения предмета, вещи в структуру художественного произведения» [Антоневич 2000: 9]. 122
ется за норму применительно к большинству классов предметов» [Арутюнова 1998: 67]. Далее она рассуждает об аксиологической норме, тип варьирования которой принципиально отличен от параметрической нормы: «Соответствие аксиологической норме может быть стандартизировано только в применении к серийным артефактам или искусственно выводимым естественным родам (сортам, породам). Никакие стремления к нормативам не могут подавить ценность индивидности. В этом состоит одна из причин того, что большинство определений хорошего, в том числе и дефиниция Вежбицкой, сводятся к "пустой клетке", соответствующей интенсиональному объекту, и различаются только выбором интенсионального глагола, от которого зависит "пустая клетка": "то, что мы хвалим (одобряем)", "то, что можно рекомендовать", "то, что мы желаем", "то, к чему все стремятся" и т.п.» [там же: 68]. В области аксиологических понятий «…норма лежит не в срединной части шкалы, а совпадает скорее с ее позитивным краем. А. Вежбицкая отметила, что хороший означает ‘соответствующий норме’, а не ее превышающий . Соответствие аксиологической норме скорее представляет собой должное, чем действительное» [там же: 66]. Отсюда вывод: «Понятие нормы… отождествляется с фланговым участком шкалы, но ведет себя по законам отклонения от нормы. Сообщения о том, что объект удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям, столь же информативны, как сообщения об отклонении от нормы» [там же: 84]. О градуировании в рамках нормированного поля писал также Э. Сэпир: «При психологическом или лингвистическом градуировании возникают трудности, когда речь идет об объединении понятий градуирования и нормирования в понятие нормированного поля, внутри которого происходит градуирование» [Сэпир 1985: 59]. Он выделяет градуирование открытого диапазона (это логическое градуирование, которое «…либо отсылает, либо не отсылает к объективной норме или среднему статистическому»), и градуирование закрытого диапазона (психологическое и лингвистическое градуирование). Немаловажным является замечание этого исследователя о том, что логическая норма между такими, например, качествами, как хороший и плохой, далекий и близкий, зеленый и желтый, «…ощущается человеком не как истинная норма, а скорее как раз123
мытая зона, в которой встречаются упорядоченные в противоположных направлениях качества. Наивная картина мира такова, что каждый человек либо хороший, либо плохой; если его нельзя с легкостью отнести к тому или другому, то о нем говорят, что в чем-то хороший, в чем-то плохой, а не что он просто нормальный или что он ни хороший, ни плохой» [там же: 54]. Размытой в этом же отношении является зона нормы, которая находит отражение в содержании высказываний. Ф. А. Литвин пишет: «Норма, связанная с выбором средств плана выражения языка, в принципе отчетлива и недвусмысленна . Норма же, связанная с выбором в плане содержания языковых единиц, оказывается в большей или меньшей степени размытой, основанной на градации, а не на противопоставлении». По мнению исследователя, «…объясняется это различие тем, что членение семантического континуума (языкового средства отражения внеязыковой действительности86) в меньшей мере связано с противопоставлением, чаще представляет собой шкалу, основанную не на наличии или отсутствии, а на степени представленности или проявления того или иного признака. Отсюда и гораздо бóльшая возможность нейтрализации различий, ведущая по существу к относительности нормы…» [Литвин 1990: 14]. Интересной является мысль Э. Сэпира о контекстуальном варьировании нормативной точки отсчета: «Много просто означает любое число, определенное или неопределенное, которое "больше, чем" некоторое другое число, принятое за начало отсчета. Эта точка отсчета, очевидно, сильно варьирует от контекста к контексту. Для человека, наблюдающего ясной ночью за звездами, тридцать звезд может быть только "мало", но для корректора, исправляющего ошибки в гранках, то же число ошибок на полосе может быть не только "много", но и "очень много". Пять фунтов мяса для семьи из двух человек может быть обременительно "много", однако с точки
86
«Утверждение многих лингвистов и философов, будто бы язык отражает действительность, основано на недоразумении. Звуковой комплекс, образующий слово, ни к какому отражению сам не способен. Фактически результатом отражения являются концепты, или понятия. Язык связан с действительностью через знаковую соотнесенность. Язык не отражает действительность, а отображает ее знаковым способом» [Серебренников 1988: 6]. 124
зрения человека, заказывающего провиант для полка, это количество мяса заведомо меньше, чем "мало"» [Сэпир 1985: 44]. По мнению Е. А. Поцелуевского, в некоторых случаях норма и точка отсчета могут не совпадать. Так, очень красный – степень качества больше средней и слишком красный – степень качества больше некой нормы. Поэтому он разграничивает норму и усредненную (нулевую) степень качества, которую, с одной стороны, называет «идеальной нормой», а с другой – «усредненным отклонением от нормы» [Поцелуевский 1974: 231-238]. РП могут занимать разное положение на шкале норма – отклонение от нормы. В свете сказанного рассмотрим высказывание У нее осиная талия (= У нее очень тонкая талия), в отношении которого возникает вопрос: что перед нами – гипербола или литота (мейозис)? И. В. Пекарская считает, что ответ на этот вопрос зависит от того, как понимать гиперболу и литоту. По ее мнению, трактовка гиперболы как преувеличения свойства (размера, силы, значения и т.д.) какого-либо явления, а литоты как их преуменьшения некорректно, потому что такое определение понятий не позволяет квалифицировать обозначенную фразу или высказывание в качестве гиперболы или литоты. Исследователь полагает, что гиперболу и литоту целесообразнее определять как преувеличение: гиперболу – как «преувеличение большого», а литоту – как «преувеличение малого» [Пекарская 2003: 84]87. Тем самым литота рассматривается как разновидность гиперболы. Но это не решает поставленного вопроса: У нее осиная талия – это преувеличение большого или преувеличение малого? Ответы разнятся, очевидно, потому, что мы имеем дело с пересечением объективной нормы (существуют среднестатистические показатели объема талии в зависимости от пола, роста, возраста и т.д.) и нормы психологической, связанной с особенностями восприятия (что для одного тонко, для другого может оказаться толстым) и поэтому размытой. Причем объективная норма в данном случае яв-
87
Эту мысль высказывали ранее: «Когда какой-нибудь небольшой предмет определяют как еле заметный глазом – это тоже гипербола» [Томашевский 1983: 236]; «…преуменьшение предмета – это не что иное, как преувеличенное представление малых размеров предмета» [Крысин 1988: 98]. Гипербола и литота рассматриваются в одном ряду в рамках явления гиперболизации также в [Савенкова 2003]. 125
ляется параметрической нормой признака88, а «концы шкал в области параметрических значений лексически разветвлены и изменчивы» [Арутюнова 1998: 81]. Поскольку восприятие неотделимо от концептуального содержания сознания, «параметрическая лексика, – замечает Н. Д. Арутюнова, – прежде всего фиксирует отклонения от нормы». «Сфокусированность сообщений на отклонениях от нормы и стереотипа жизни, – пишет она далее, – ведет к тому, что значения, соответствующие флангам градационной шкалы, богато представлены в языке, а срединная часть – бедно» [там же: 81]. Отсюда «словарный состав языка едва ли не в большей мере отражает патологию, чем норму» [там же: 83]. Поэтому, по наблюдениям исследователя, если у писателя возникает необходимость описать «серединную ситуацию», то он нередко прибегает к одновременному отрицанию обоих экстремальных предикатов, например: В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, не слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод (Н. В. Гоголь); Подле нее сидел человек средних лет, с одним из тех лиц, которые не поражают вас ни телесным безобразием, ни душевной красотой, которые не привлекают вас и не отталкивают (В. Ф. Одоевский) [там же: 82]. Вернемся к нашему случаю. Нельзя сказать «талия была ни тонкая, ни толстая»: оксюморонное сочетание «толстая талия» не используется. Осиная талия – учитывая пропорции частей тела, скорее, преувеличение малого, а не большого. Однако точка отсчета может варьироваться в зависимости от контекста и ситуации. Предположим, две подруги обсуждают полную женщину, идущую им навстречу, и одна другой говорит: «У нее осиная талия, ничего не скажешь». Изменение контекста приводит к появлению у слова осиная прямо противоположного значения, т.е. к антифразису. Или реплика из другого возможного диалога: Ты знаешь, по сравнению со мной, у нее просто осиная талия. В этом контексте осиная талия воспринимается уже как отклонение от индивидуальной нормы восприятия
88
Под нормой признака (качества) понимают «…обусловленное традициями народа самое обычное проявление признака в конкретной ситуации», т.е. среднюю меру [Ярышева 1995: 6]. 126
или, что точнее, прагматической «нормы говорящего»: в качестве нормы говорящий предлагает собственные параметры89. Вполне вероятно существование такого контекста, при котором осиная талия будет восприниматься одинаково если не всеми, то, по крайней мере, большинством носителей языка90. Предположим, ребенок нарисовал девочку с талией, которая не гармонирует с пропорциями остального тела (существование такого рисунка онтологически возможно). Взрослый, посмотрев на этот рисунок, сказал: «У нее же осиная талия. Почему такая тонкая?» – «Она на диете сидела», – отвечает ребенок. Восприятие рисунка будет, очевидно, схожим у любого человека, независимо от объема его талии: исходя из пропорции частей тела, перед нами «преувеличение малого». Таким образом, перед нами троп (осиная талия), а именно метафора, которая когда-то возникла в результате переноса по сходству и «намеренного нарушения закономерностей смыслового соединения слов» [Арутюнова 1998: 346], а сейчас уже лексикализовалась. Главным признаком метафоры является ее антропометричность: «Выбор того или иного основания для метафоры связан со способностью человека соизмерять все новое для него (в том числе и реально несоизмеримое) по своему образу и подобию или же по пространственно воспринимаемым объектам…» [Телия 1988: 182]. Поэтому вопрос о гиперболе или мейозисе применительно к осиной талии может решаться в рамках того или иного контекста и/или ситуации, но при89
О «норме говорящего» и «норме слушающего» см. [Кронгауз 2004: 139-141]. 90 А. С. Никулин считает, что «...если нет абсолютной нормы, нормы "для всех", то нормы нет вообще» (Цит. по [Воротников 2003: 192]). С ним не соглашается Ю. Л. Воротников: «Если житель тропиков и житель полярной зоны по-разному оценят температуру воздуха в минус пять градусов, то в оценке пятидесятиградусного мороза они будут, вне всякого сомнения, солидарны: обоим будет "очень холодно", поскольку у обоих единый, так сказать, каузатор нормативных представлений – их общая человеческая природа» [там же: 192]. Норма качества, по его мнению, определяется следующими характеристиками: 1) «норма может быть субъективна, ситуативно обусловлена, т.е. релятивна»; 2) «норма объективируется в процессе человеческой деятельности, она традиционна, т.е. в определенной мере устойчива; 3) «норма антропоцентрична, ориентирована на различные параметры человека как биологического и социального существа, т.е. в известном смысле абсолютна» [там же: 192-193]. 127
менительно к языку, на наш взгляд, это сочетание – мейозис (метафорический), поскольку иллюстрирует отклонение от некоторых среднестатистических представлений человека о строении и пропорциях его тела. Если имеется градационная шкала нормы, то логично предположить наличие и градационной шкалы отклонений от нормы. Этот вопрос остается в лингвистике неразработанным: нам известны лишь единичные публикации, в которых бы он подробно рассматривался91.
1.5. Понятие нейтрализации применительно к риторическому приему В системе русского литературного языка норма и отклонение от нормы находятся в отношении оппозиции (противопоставления)92, однако осознаются они как родственно близкие: «Отклонения от нормы, накапливаясь, создают новую норму с приращением значения и известную упорядоченность, и эта новая норма может быть 91
Так, Ю. Д. Апресян в статье «Языковые аномалии: типы и функции» в качестве одного из оснований классификации экспериментальных аномалий (аномалий, используемых в лингвистике как технический прием для получения нового знания о языке) выдвигает признак большей – меньшей степени аномальности и выстраивает следующую экспериментальную шкалу: правильно – допустимо – сомнительно – очень сомнительно – неправильно – грубо неправильно [Апресян 1990: 54]. Проследить градационное шкалирование в сторону нормативности можно на материале постепенного приобретения некоторыми жаргонными словами и выражениями статуса разговорных, т.е. их вхождения в разговорный литературный узус. См. об этом [Сковородников, Копнина 2004а] или [Сковородников, Копнина 2004б]. 92 В данном случае оппозиция эквиполентная, поскольку ее члены имеют как сходные, так и специфические компоненты. Члены этой оппозиции привативно связаны с общим членом – «принцип построения». «Норма может рассматриваться как общий принцип организации изложения языкового материала в литературных текстах (т.е. в текстах, созданных в рамках литературного языка), как принцип построения таких текстов, организации и использования языковых средств в письменной и устной речи», – пишет Ю. А. Бельчиков [Бельчиков 2000: 108]. Оппозиции отражают «одну из форм связей в языке, одну из форм организации упорядоченности…» [Общее языкознание 1970: 46]. 128
вновь изменена в дальнейшем» [Арнольд 2002: 92]93. Это можно проследить на материале так называемой «лексикализации фигур» – процесса, в результате которого отклонение от нормы перестает восприниматься как таковое благодаря тому, что «из индивидуального творения оно превращается во всеобщее достояние». В таких случаях говорят о стертых (угасших) метафорах, «похороны» которых, по словам одного французского лингвиста, происходят в словаре [Ягелло 2003: 146]. Поэтому к оппозиции норма – отклонение от нормы применимо понятие нейтрализации, введенное, как известно, в лингвистику фонологами и разработанное Н. С. Трубецким в рамках универсального учения о системе оппозиций [Трубецкой 2000: 83-89, 243-257]. При этом следует иметь в виду, что в современной лингвистике нейтрализация понимается как узко («позиционное снятие противопоставления элементов языковой структуры» [БЭС 1998: 328]), так и широко («…такое снятие различий, которое достигается не только устранением парадигматического дифференциального признака, но и совмещением, или контаминацией, таких признаков», «любое снятие различий» [Сковородников 1981: 190])94. При рассмотрении обозначенной оппозиции возникает также вопрос о правомерности квалификации отклонения от нормы как элемента структуры языка, так как само отклонение от нормы происходит в области речи, индивидуального речевого употребления, что постулируется многими лингвистами. Описание отклонения от нормы как явления не только речи, но и языка оправдано тем, что «…в отличие от законов природы, языковые правила в некотором смысле сами предусматривают возможность их нарушения – по не93
Создавать норму могут не только бывшие отклонения от нее, но и наоборот, то, что не нормативно сейчас, могло быть нормой в прошлом: ср. архаизмы типа дóмы, долее всего сохранявшиеся в поэтической речи [Крысин 1966: 32]. Факт генетической близости нормы и отклонения от нее подтверждает существование на определенном этапе становления нормы переходных явлений между «нормой» и «ненормой», находящихся в «серой» (В. А. Ицкович), или «тамбурной» (С. И. Виноградов), зоне [Виноградов 1996: 127]. Об этапах становления норм см. [Ширяев 1996: 18-19]. 94 В последнее время понятие нейтрализации используется не только применительно к единицам языка / речи. О нейтрализации (неоднозначном прочтении речевых действий) применительно к речевой стратегии (тактике) пишет О. С. Иссерс [Иссерс 1999: 14, 21]. 129
досмотру или с какими-то специальными целями» [Булыгина, Шмелев 1997: 439]. «Система языка, – пишет Т. П. Ломтев, – находится не за пределами ее реализации, а в самой реализации, то есть в самом реальном речевом процессе как форма выражения закономерных связей элементов языка» [Ломтев 1976: 33]. Существование «определенного фона оптимальных отклонений от нормы» признается одним из условий успешного развития языка [Григорьев, Григорьева 1990: 8]. А. П. Сковородников говорит о нейтрализации не лингвистических единиц или классов единиц (парадигм), а о «нейтрализации противоположных принципов организации высказываний» [Сковородников 1981: 190]. К РП как прагматически мотивированным отклонениям от нормы или ее нейтрального варианта понятие нейтрализации в таком его осмыслении вполне применимо. Это позволяет, в свою очередь, рассматривать совокупность РП как особого рода подсистему русского литературного языка, элементы которой, будучи противопоставленными со стороны своих формальных признаков, характеризуются определенной функциональной общностью. Нейтрализация принципа отклонения от нормы95 возникает благодаря градационному шкалированию нормы, отклонения от нормы и в зависимости от окружающих языковых/речевых единиц и/или в зависимости от прагматических условий общения. Поэтому категория контекстной позиции характерна не только для фонем и слов [Кузнецова 1983: 62-63], но и для РП. Можно говорить о контекстуальной нейтрализации принципа отклонения в сознании адресата (когда аномалия переосмысляется как норма) в процессе восприятия им того или иного факта речевой действительности и о нейтрализации принципа отклонения в системе языка. 95
«…Традиционная лингвистика, а также ряд влиятельных современных лингвистов (Болинджер, Мартине, Данеш, Вахек) подчеркивают неопределенность, градуальность (Bolinger, 1961) лингвистических противопоставлений, наличие для многих явлений "центральной зоны", где принцип дихотомичности действует безотказно, и "периферии", где противопоставления оказываются смытыми (Travaux, 1966). Эта особенность связывается указанными учеными именно с тем, что естественный язык в каждую данную эпоху является исторически сложившимся и исторически развивающимся явлением и этим резко отличается от языков искусственных» [Ревзин 1977: 63]. 130
Контекстуальная нейтрализация отклонения от нормы (или ее нейтрального варианта), на котором и строятся приемы, оказывается возможной благодаря существованию правил переосмысления, о которых пишут как отечественные, так и зарубежные исследователи. На переосмыслении правил речевого поведения основана интерпретация так называемых «противоречивых» высказываний, т.е. высказываний, построенных на принципе отклонения от закона противоречия и представляющих собой разновидность паралогических РП. Это высказывания типа: а) Анна красива и безобразна; б) Петер высокого и низкого роста; в) Петер с Анною «на ты» и не «на ты»; г) Работа Петера нам всем доступна и недоступна; д) Анна работает много, и она работает немного [Кифер 1985: 336]. По мнению Ф. Кифер, противоречия в этих высказываниях могут быть разрешены различным способом, причем выбор способа интерпретации определяется семантической структурой высказывания и – отчасти – экстралингвистическими знаниями. Интерпретация этих высказываний адресатом основывается на «Принципе кооперации» Грайса, а именно на постулатах способа: адресат предполагает, что произнесение противоречивого высказывания входило в намерение говорящего, и поэтому пытается понять, что он имел в виду. Так, противоречие в высказывании (а) исчезает, если предположить, что, во-первых, Анна красива с одной точки зрения и безобразна – с другой, например, у нее красивое лицо и безобразные ноги или наоборот, и, во-вторых, что Анна временами красива, а временами – безобрáзна, например, безобрáзна по утрам и красива вечером. Противоречие в высказывании (б) снимается, если его осмыслить так: Петер может быть высоким, если его рассматривать с какой-то одной точки зрения, и иметь низкий рост – с другой точки зрения, например, по сравнению с братом он может быть высокого роста, а по сравнению с сестрой – низкого. Размышляя над высказыванием (в), можно представить, что иногда Петер обращается к Анне "на ты", а иногда "на вы". Также легко снимаются противоречия и в последних двух высказываниях: (г) официально работа Петера может быть недоступна, но неофициальный доступ к ней имеется; или, возможно, в принципе эта работа доступна, на практике же нет – например, если реально добраться до нее невозможно; (д) кажется, что Анна работа131
ет много, но если на ее работу взглянуть с иной точки зрения, то она работает мало; послушать Анну, она работает много, но судя по отсутствию реальных результатов, это не так. Тем самым Ф. Кифер приходит к выводу о существовании нескольких способов разрешения противоречий: (а) временами Х, временами не Х; (б) с точки зрения А – Х, с точки зрения В – не Х; (в) официально Х, неофициально не Х; (г) в принципе Х, на практике не Х; (д) кажется, что Х, а на самом деле не Х. Ф. Кифер оговаривает, что этот список неполон и его можно продолжить за счет других способов возможного понимания противоречивых высказываний [Кифер 1985: 336-339]. По сути, исследователь описывает случаи нейтрализации отклонений от логической нормы, которые осуществляются на основе «семантической редукции» (термин Н. Д. Арутюновой) – сведения аномального смысла к нормальному [Арутюнова 1990: 4] при помощи переосмысления принятых правил речевого поведения. Отметим также, что если высказывания (а) и (б) основаны на конъюнкции антонимов, то высказывания (в) – (г) – на конъюнкции утверждения и отрицания. Нейтрализация последних может осуществляться при помощи сочетания типа «кажется, что…», которое Н. Д. Арутюнова обозначила как «миропорождающий оператор» [там же: 7]. Различного рода операторы используются при переосмыслении так называемых «самофальсифицируемых» высказываний – высказываний, обладающих автореферентностью, т.е. отсылающих к ним самим, напр.: Не делай, пожалуйста, того, о чем я прошу; Предсказываю, что данное обещание не сбудется; Я не могу сказать ни слова по-русски и т.п. Такие высказывания, по мнению А. Д. Шмелева, примыкают к противоречивым высказываниям, а переосмысление н е к о т о р ы х из них возможно путем рестрикции: Все высказывания ложны = Все высказывания ложны, кроме этого [Булыгина, Шмелев 1997: 454]. Трактовка так называемых семантических аномалий, в частности нарушений «семантических сочетаемостных ограничений», зависит, по мнению Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелева, от того, как проводится граница между "базовыми" правилами и правилами переосмысления. «Так, – пишут исследователи, – фраза из "Фауста" 132
Grau ist alle Theorie, doch grün des Lebens goldner Baum, которая при буквальном понимании аномальна как с точки зрения семантических сочетаемостных правил (цветовое прилагательное grau не может сочетаться с абстрактным существительным Theorie), так и с точки зрения формальной логики (одному объекту присваиваются несовместимые признаки 'золотое' и 'зеленое'…), может рассматриваться как семантически правильная, если прилагательным grau, grün, golden и сочетанию Ваит des Lebens будут приписаны переносные метафорические значения в словаре или же в число семантических правил будут включены правила метафоризации» [там же: 443]. С переосмыслением правил речевого поведения связана интерпретация высказываний типа Закон есть закон, Женщина есть женщина, Война есть война. Способы осмысления таких биноминативных тавтологий в русском языке, как пишут Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелев, зависят от целого ряда параметров: тип имени (имя собственное, дескрипция или местоимение), его референциальный статус, наличие связки, наклонение и время, порядок слов, наличие распространителей. Другими словами, нейтрализация отклонения от нормы является в данном случае не только контекстуально, но и структурно обусловленной. «Так, высказывания вида Х есть Х (где Х – личное имя собственное) чаще всего выражают терпимость, понимание, что ничего лучшего от данного лица ждать не приходится, а высказывания вида Х – это Х скорее указывают на высокую оценку носителя имени, на то, что, по мнению говорящего, он не чета другим (как в одном из произведений Ф. Искандера, где говорится: Великий Питон – это все-таки Великий Питон)». Сказанное иллюстрируется и на таком примере: «Высказывание Фишер есть Фишер естественно произнести в ситуации, когда приходит известие об очередном требовании американского гроссмейстера, доставляющем много неудобств организаторам соревнований, а высказывание Фишер – это Фишер звучит естественно, например, в ситуации, когда, получив известие о новой победе американского гроссмейстера, говорящий подчеркивает, что этого и следовало ожидать». Конструкции вида Х – это Х, по наблюдениям исследователей, используются при указании на индивидуализированность, «особость» объекта, поэтому они могут иметь также значение логической или эмпирической идентификации [там же: 444]. Тавтологии типа Х есть Х чаще всего, как отмечает А. Д. Шмелев (вслед за Н. А. Николиной), представляют собой «формулу примирения с действительностью». Исследователь подчеркивает, что «при133
мирение с действительностью» чрезвычайно характерно для русской языковой картины мира в целом, и рассматривает разные варианты такого примирения: 1) понимание неизбежности негативных аспектов явления (Реклама есть реклама; Дети есть дети); выявление того, что все манифестации Х имеют как позитивные, так и негативные стороны (Человек есть человек, Бог и Черт в нем всегда рядом (Р. Вебер)); 2) осознание необходимости выполнять свой долг по отношению к Х, каким бы этот Х ни был (Закон есть закон; Приказ есть приказ) [там же: 506]. Если Г. Грайс96 и другие исследователи переосмысление биноминативных конструкций связывают с постулатами общения, то Ю. Д. Апресян полагает, что интерпретация этих конструкций может быть основана на обращении к коннотациям опорного существительного. При этом под коннотацией лексемы имеются в виду «…н е с ущ е с т в е н н ы е, но у с т о й ч и в ы е признаки выражаемого ею понятия, которые воплощают принятую в данном языковом коллективе оценку соответствующего п р е д м е т а или ф а к т а д е й с т в ит е л ь н о с т и. Они не входят непосредственно в лексическое значение слова и не являются следствиями или выводами из него» [Апресян 1995: 159]. В биноминативной конструкции, по мнению исследователя, первая позиция актуализирует собственно лексическое значение слова, а последняя – его коннотации. Поскольку у войны есть коннотации зла, бесчеловечности, аморальности, опустошения, то «высказывание Война есть война, – пишет исследователь, – уместно в любой ситуации, когда говорящий пытается объяснить слушающему, почему наблюдаемое положение вещей отклоняется от нормы добра, человечности, морали, порядка» [там же: 167]97. Правда, при рассмотрении высказыва96
Подход Г. Грайса Ю. Д. Апресян называет «радикально прагматическим», а подход А. Вежбицкой, показавшей, что устойчивая семантическая интерпретация каждого такого типа высказывания специфична для данного языка, – «радикально семантическим» [Апресян 1995: 166]. Идея интерпретации коннотаций, как пишет сам исследователь, возникла у него благодаря мысли Е. В. Падучевой, которая, обсуждая биноминативные конструкции, внесла существенное уточнение в тезис Г. Грайса и определила «подразумеваемое» в таких случаях как «ассоциации», связанные с соответствующими понятиями, т.е. коннотации [там же: 166]. 97 К правильным и легко интерпретируемым высказываниям Ю. Д. Апресян относит и такие: Дети есть дети, Теща есть теща, Волки есть волки, Верблюд он и есть верблюд, Бегемот он и есть бегемот. Сомнительны134
ний такого рода, по его мнению, должны быть исключены устойчивые (лексикализованные) обороты типа Закон есть закон, так как они имеют единственное (словарное) толкование. В результате Ю. Д. Апресян приходит к выводу, что биноминативные конструкции рассматриваемого типа не тавтологичны и, следовательно, не нарушают постулата информативности. Он называет их псевдотавтологическими [там же: 166]. Полагаем, что подходы А. Д. Шмелева и Ю. Д. Апресяна не противоречат друг другу, а, наоборот, развивают теорию интерпретации высказываний подобного типа. Считаем, что в результате переосмысления таких высказываний (при помощи постулатов общения и в результате анализа коннотаций опорного существительного) отклонение от постулата информативности в сознании адресата нейтрализуется. Тем самым снимается спорный вопрос об их тавтологичности / нетавтологичности (это нейтрализуемая тавтологичность). Таким образом, семантическая редукция (сведение аномального смысла к нормальному98) – один из способов нейтрализации отклонения от нормы. Другой способ нейтрализации представлен в таком высказывании, которое «…в принципе не может быть истинным в применении к данной нам в опыте (практическом и теоретическом) действительности» [Арутюнова 1990: 6], то есть в высказывании, основанном на отклонении от принципа правдоподобия (или логикопредметной нормы). Напр.: Расшалившись в спальне, Наташа мазми же и с трудом интерпретируемыми считает высказывания Мир есть мир, Отроки есть отроки, Тесть есть тесть, Пумы есть пумы, Лама она и есть лама, Гиппопотам он и есть гиппопотам. Это высказывания с небольшим или вовсе нулевым коннотативным потенциалом. Если они и переосмысляются, считает он, то на гораздо более субъективной основе, чем в случае узаконенных языком коннотаций [Апресян 1995: 167]. Хотя мы не видим большой разницы между высказываниями Бегемот он и есть бегемот и Гиппопотам он и есть гиппопотам. Высказывание же Отроки есть отроки напоминает распространенное сейчас Молодежь есть молодежь. 98 Редукцией, или снятием, нарушения представители группы µ называют «механизмы снятия нарушений, позволяющие скорректировать понимание и одновременно создающие предпосылки для порождения определенного семантического эффекта» [Дюбуа и др. 1986: 21]. По их мнению, редукции подвергаются все метаболы, что позволяет адресанту вызвать у получателя сообщения определенную реакцию, этос. Тем самым понятие редукции ими используется более широко. 135
нула кремом Николая Ивановича и сама оторопела от удивления. Лицо почтенного нижнего жильца свело в пятачок, а руки и ноги оказались с копытцами (М. Булгаков. Мастер и Маргарита). Такие высказывания являются нормативными с точки зрения языка, однако в дескрипции (описании) иллюстрируют отклонение от принципа правдоподобия (предметно-логической нормы). Они используются для передачи различного рода абсурда, нелепиц, описаний фантастических ситуаций и т.п. Поэтому исследователи (Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев, И. М. Кобозева, Н. И. Лауфер, И. А. Мельчук, Т. Б. Радбиль) не считают их собственно языковыми аномалиями. Думаем, что нейтрализация отклонения от принципа правдоподобия в таких высказываниях может осуществляться благодаря использованию глаголов допустим, предположим, представим, сообразим, помечтаем, пофантазируем, вообразим и т.п.99, которые, по наблюдению Н. Д. Арутюновой [Арутюнова, Падучева 1985: 28], эксплицируют несоответствие содержания предложения / высказывания действительности, т.е. являются сигналами иррациональности. Экспликация несоответствия содержания действительности может осуществляться также при помощи различного рода сочетаний я это сочинил; да и где ж это видано; кажется, что; показалось, что и многих других100. Напр.: Дым столбом валил в трубу, / 99
Это глаголы, обозначающие воображаемое восприятие (вообразить / воображать, показаться / казаться, послышаться / слышаться, представить / представлять, представиться / представляться, привидеться / видеться, померещиться / мерещиться, почудиться / чудиться, присниться / сниться). Выделенные курсивом пары глаголов имеют «презумпцию нереальности Образа» [Падучева 2003: 86]. С. И. Сметанина контексты с подобными словами называет «игрой-воображением» [Сметанина 2002: 181]. Ср. также: «Гипотетические высказывания [высказывания типа Представь себе: плывет по реке лодка. – Г. К.] являются переключенными, но они вводят не один из возможных миров (положений дел), а единично возможный мир, н е й т р а л ь н ы й по признаку реальности / ирреальности [выделено нами. – Г. К.]. Это придает им совершенно особый статус среди высказываний: говорящий не несет ответственности за выполнимость и обоснованность гипотезы, т.е. за релевантность своего высказывания» [Мерлин 1990: 6]. 100 В аспекте применения понятия нейтрализации применительно к РП интересно такое высказывание Г. П. Грайса о «подавляемости» импликатуры как об одном из ее свойств: «…в определенных ситуациях обобщенная импликатура может подавляться. Она может подавляться эксплицитно – 136
Месяц с неба выл на пса, / Птицы пугало пугали, / Ела кошку колбаса. / Соль себя пересолила, / Мыло в шайке пену мыло, / Шалопаев били стекла, / Пыль пошла – вода промокла / Тень отбрасывала шест – / Это все я сочинил / Покамест голову чинил (Ф. Галас. Мир наоборот) – «семантический хиазм» (термин И. В. Пекарской [2000б: 141]), основанный на операторе перестановки (мены существительных синтаксическими позициями). Нейтрализация отклонения от предметно-логической нормы здесь происходит за счет того, что речь идет не об онтологии предметной действительности, а об онтологии психического мира человека101. Сигналы иррациональности переводят те или иные факты, события из области р е а л ь н о г о в в и р т у а л ь н о е (возможное в художественной жизни), за счет чего и происходит нейтрализация отклонения от принципа правдоподобия, и это отклонение воспринимается в качестве возможного, например, в области сна, фантазии как особой мыслительной деятельности человека. В свою очередь, виртуальное может стать реальным: вспомним, например, произведение Ж. Верна «20000 лье под водой», в котором описывается подводная лодка капитана Немо, воспринимавшаяся некогда как ирреальная (фантомная) вещь. Хотя, очевидно, не всякое виртуальное может стать реальным. Переосмысление и – как его результат – нейтрализация отклонения от истинного положения дел может осуществляться также за счет метафорического или, как в приведенном ниже примере, метонимического построения высказывания / текста: Верьте хотите, / Хотите не верьте, / Только вчера / Мне прислали в конверте / Жирафа, весьма добродушного / С виду, / Большую египетскую пирамиду, / Айсберг с Тихого океана, / Кита-полосатика / Вместе с фонтапутем включения в высказывание какого-либо выражения, содержащего прямое или косвенное указание на то, что говорящий уклоняется от соблюдения Принципа Кооперации; подавление импликатуры может быть также контекстным – когда высказывание, обычно порождающее импликатуру, употребляется в таком контексте, из которого явно следует, что говорящий на самом деле уклоняется от соблюдения Принципа Кооперации» [Грайс 1985: 236]. Именно наличие сочетаний, указывающих на отклонение от того или иного постулата, в некоторых случаях свидетельствует о нейтрализации этого отклонения. 101 О необходимости разграничивать эти разные типы онтологии см. [Арутюнова 1990: 6-7]. 137
ном, / Целое стадо гиппопотамов / И очень известный / Вулкан – Фудзияма. / Вы получали такие подарки? / Значит, и вы собираете марки (Э. Успенский. Удивительное дело). Говоря о приемах такого типа («приемах нарочито неправдоподобного описания» [Москвин 2000: 44]), нужно отметить, что мотивированное отклонение от принципа правдоподобия является, в свою очередь, жанровой нормой для многих художественных текстов (сказок, басен, фантастических романов и др.), где жанрообразующим началом является категория необычного. Другими словами, отклонение в речи от одной нормы не обязательно ведет к отклонению от другой нормы. Существуют не только приемы, нарушающие принцип правдоподобного описания, но и «приемы достижения правдоподобия фантастического», когда необыкновенное, исключительное предстает в подчеркнуто реальной, обыденной обстановке посредством детализации материального мира [Бурцев 1988: 79-80]. Так, в целом ряде рассказов Уэллса необыкновенные события разворачиваются на фоне конкретных мест, пунктов, улиц. В таких случаях литературоведы говорят о «принципе "нейтрализации" фантастики». Этот принцип имеет место при переводе фантастики в форму слухов, предположений, преданий, при использовании мотива сна [там же: 80]. Исторически нейтрализация может происходить и в системе РП, но она иного плана: это такое «снятие» принципа отклонения, в результате которого речевая единица постепенно становится фактом структуры языка, то есть переходит в его систему. Некоторые конструкции, основанные на отклонении от современной картины мира, как известно, прочно закрепились в языке. Например, сочетание сомнение гложет, солнце встает и т.п. В них благодаря «принципу фиктивности» и свойству антропометричности совмещаются «сущности разных логических порядков и онтологически гетерогенных» [Телия 1988: 188]. Этимологически окказионализмами являются слова будущность (принадлежит Карамзину), стушеваться (принадлежит Достоевскому), непротивление (было придумано Л. Н. Толстым) [Лыков 1977: 70]. Можно говорить об относительной (частичной) и абсолютной (полной) нейтрализации отклонений. В результате полной нейтрализации многие некогда тропеические сочетания (типа ножка стула, лист бумаги и т.п.) стали достоянием языка. И если одни исследователи называют их «лексическими метафорами» (напр., [Ах138
манова 2004: 232]), то другие пишут, что это «не метафора, не троп», а «явление совсем иного плана, требующее другого аспекта рассуждений» [Полторацкий 1985: 15]102. В результате полной нейтрализации РП перестает быть приемом, поскольку воспринимается как нейтральное (более или менее нейтрализовавшееся) нормативное явление, в отличие от результата частичной нейтрализации, когда единица, хотя и употребительна в речи, но представляет собой отклонение от нейтрального варианта нормы (другими словами, является экспрессивно-нормативным ее вариантом). Ср.: ножка стула, ножка одуванчика и косой взгляд. Норма, отклонение от нормы, нейтрализация отклонения – это явления, осмысление которых в совокупности позволяет обосновать системность РП и в дальнейшем построить их непротиворечивую классификацию.
2. Понятие модели в лингвистике и моделируемость риторического приема 2.1. Понятие и свойства модели в лингвистике «…Единственной реальностью, с которой лингвист непосредственно имеет дело, является текст, а интересующие его механизмы языка, лежащие в основе речевой деятельности человека, не даны ему в прямом наблюдении», – пишет Ю. Д. Апресян [Апресян 1966: 3-4]. Поэтому познать объект можно через моделирование (построение моделей), смысл которого «…состоит в том, чтобы вместо скрытых от нас свойств объекта изучить заданные в явном виде свойства модели и распространить на объект все те законы, которым подчиняется работа модели» [там же: 3].
102
Ср. подобное высказывание: «…становясь фактом языка, стилистический прием претерпевает большие семантические изменения, в силу чего он перестает быть стилистическим приемом. Поэтому включение, например, в одну группу так называемых индивидуальных и общеязыковых, или оригинальных и стершихся, метафор, является, на наш взгляд, методологической ошибкой, смешением двух планов исследования – исследования языка и исследования речи» [Ситникова 1965: 9]. 139
Под моделью объекта понимают «другой объект (реальный или воображаемый), отражающий отдельные основные свойства исходного с той или иной степенью полноты» [Агеев 2002: 183]. Иными словами, «модель есть результат процесса познания, зафиксированный в мозгу или вне его на подходящей физической среде» [Пешель 1981: 13]. Понятие модели в современном языкознании используется применительно к различным явлениям и осмысляется по-разному. Традиционно его употребляют при описании языковых единиц, в частности предложения. Так, Б. Ю. Норман пишет: «Фактически за предложением как таковым скрываются два различных понятия: обобщенный и н в а р и а н т, существующий в сознании носителя языка, и конкретный в а р и а н т, представленный в данном тексте. (Для большей строгости описания их следовало бы разграничивать терминологически: для первых подходит название синтаксических моделей, или структурных схем, а вторые удобно именовать высказываниями, или фразами; такое разграничение предлагалось уже В. Матезиусом.) Тем самым синтаксис естественно вписывается в общую последовательность (иерархию) изоморфных языковых уровней, располагающих парами основных единиц – таких, как фонема и аллофон на фонетическом уровне, морфема и алломорф – на морфемном и т.д.» [Матезиус 1994: 124]. Понятие модели используют также при описании естественного языка в целом: в работе И. А. Мельчука модель «Смысл ↔ Текст» применительно к естественному языку представляет собой формальное описание его грамматики и словаря, реализованное в виде системы правил [Мельчук 1999]. Значимой в области моделирования языка книгой признают работу И. И. Ревзина «Модели языка», которая была переведена на все основные европейские языки. В последние десятилетия понятие модели распространяется в лингвистике и на явления речевого характера: говорят о модели текста как совокупности определенным образом организованных категорий [Матвеева 1991: 13]; графической модели (= схеме) коммуникативного процесса [Головин 1980: 29]; модели (= структуре) речевого акта, включающего отправителя (адресанта), получателя (адресата), собственно сообщение с его языковым кодом, канал связи, обратную связь, коммуникативный контекст и помехи [Иссерс 1999: 12]. Т. В. Шмелева пишет о модели речевого жанра (или речевой модели жанра) как эксплицировании в формулировках научной дефи140
ниции интуитивного представления человека о «типовом проекте», каноне, схеме жанра [Шмелева 1997: 91], но она не ставит перед собой задачи теоретического обоснования правомерности выделения речевой модели наряду с языковой. Исследователь характеризует семь признаков модели жанра: коммуникативная цель, образ автора, образ адресата, образ прошлого и образ будущего, тип диктумного (событийного) содержания, языковое воплощение [там же: 91-96]. Тем самым речевая модель жанра предстает как системное описание жанрообразующих признаков, как некая схема, по которой могут получать характеристику различные жанры. М. Я. Дымарский пишет о модели высказывания, которая далека от модели предложения (структурной схемы как минимальной конфигурации компонентов предложения, необходимых для реализации его предикативного значения) и определяется им как «регулярно воспроизводимая в живой коммуникации совокупность следующих признаков отрезка речи: а) способность быть отдельной репликой в диалоге; этот признак тесно связан с признаками (в) и (д); б) наличие / отсутствие модели предложения (структурной схемы), реализацию которой представляет собой данное высказывание; б′) в случае наличия – характер этой модели и полнота ее реализации; б′′) в случае отсутствия – степень воспроизводимости высказывания как готового речения; в) типовая функция высказывания в контексте и обусловленный этой функцией характер реализации и распространения схемы (последнее – для высказываний, опирающихся на структурную схему предложения); г) характер тема-рематической организации (полная / неполная реализация компонентов актуального членения, взаимное расположение компонентов); д) интонационное оформление; е) наличие и позиция вводных и вставных компонентов, междометий, модальных частиц, обращений» [Дымарский 2005: 294295]. Так, реплика Нади из фильма В. Меньшова «Любовь и голуби» Не пойду! имеет грамматическую модель (модель односоставного определенно-личного предложения), элиминацию темы (опущен обстоятельственный компонент; ср.: На свидание / на берег не пойду!) и характерный интонационный рисунок (произносится как бы по слогам с акцентным выделением первого и третьего слогов и резким понижением тона на втором). Другой пример исследователя – Ну что ты, конечно! (реплика из диалога). Это высказывание, как отмечает М. Я. Дымарский, не реализует какую-либо из грамматических мо141
делей предложения и не обладает, с формальной точки зрения, актуальным членением (поскольку включает только междометие и вводный компонент, акцентирующий подразумеваемую тему). Оно окрашено стандартной интонацией согласия-подтверждения и представляет собой полноценное высказывание. Но, несмотря на различия между высказываниями, в обоих случаях можно говорить о стоящих за ними моделях в обозначенном понимании [там же: 293294]. М. Я. Дымарский подчеркивает, что понятие модели высказывания не является принципиально новым. Вопрос о моделируемости высказывания (наличия у него схемы) был поставлен в работах Е. Н. Ширяева, посвященных разговорной речи, который, в свою очередь, развивал положения, высказанные в 1960-е гг. в исследованиях Ф. Данеша, К. Гаузенблаза, П. Адамца [там же: 297]. Таким образом, очевидно, выделение языковых и речевых моделей не есть классификация лингвистических моделей, поскольку само понятие модели в этих случаях осмысляется поразному. Ю. Д. Апресян выделяет пять наиболее важных свойств лингвистических моделей. Назовем их. 1. Ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь модели, т.е. похожесть ее поведения на поведение объекта (модель – это «функциональная аппроксимация объекта»). 2. Модель – это всегда и д е а л и з а ц и я объекта. Одним из типов идеализации является признание существующими некоторых реально не наблюдаемых фактов. 3. Всякая модель – конструкция, логически выведенная из гипотез с помощью определенного математического аппарата. 4. Модель должна быть ф о р м а л ь н о й, т.е. такой, в которой в явном виде и однозначно заданы исходные объекты, связывающие их утверждения и правила обращения с ними (правила интерпретации). 5. Э к с п л а н а т о р н о с т ь, или обладание объяснительной силой (модель объясняет факты или данные специально поставленных экспериментов, предсказывает неизвестное раньше, но принципиально возможное поведение объекта, которое позднее подтверждается данными наблюдения или новых экспериментов) [Апресян 1966: 4-10]. 142
Б. Ю. Норман, дав обзор разных подходов к рассмотрению синтаксических структур, характеризует следующие важнейшие (конститутивные и системообразующие) свойства синтаксических моделей. 1. Воспроизводимость (модель не конструируется каждый раз заново в ходе речевой деятельности, а содержится в готовом и неизменном виде в сознании носителя языка и лишь выбирается и реализуется в соответствии с конкретными речевыми условиями), обусловленная существованием повторяющихся и стандартных референтных ситуаций, в которых происходит деятельность человека и которые вызывают стандартную же речевую реакцию носителя языка [Норман 1994: 129]. 2. Обобщенность, или условность, идеализированность, исключающая несущественные подробности («всякая модель есть упрощение, огрубление реального объекта» [Ревзин 1977: 62]). 3. Значимость, или содержательность (план содержания синтаксических моделей составляют мыслительные шаблоны – «…типовые ситуации, которые представляют коммуникативный и когнитивный опыт народа в обобщенном и вместе с тем достаточно конкретном виде») [Норман 1994: 136]. 4. Минимальность, или ядерность (структурная обязательность, конструктивная необходимость элементов синтаксической модели, что обусловлено требованием ее семантической цельности: «…без какого-либо своего члена модель не способна обозначать соответствующую типовую ситуацию») [там же: 138]. 5. Внутренняя организованность, т.е. объединенность элементов синтаксической модели определенными отношениями (отношениями подчинения, или зависимости) [там же: 141]. Названные признаки синтаксических моделей характерны в той или иной степени для моделей тех РП, за которыми исторически закрепилось наименование стилистические приемы. Во многих определениях стилистического приема103 подчеркивается его абстрагиро103
Ср., напр.: стилистические приемы – «…это модели, абстрагированные от конкретных морфологических, лексических, фразеологических, синтаксических средств языка, имеющие особую выделительную, экспрессивную окраску» [Гальперин 1974: 122]; «…намеренное и сознательное усиление какой-либо типической структуры и/или семантической черты языковой единицы (нейтральной или экспрессивной), достигшее обобще143
ванность (обобщенность), типизированность, а значит воспроизводимость; акцентируется также внимание на том, что под термином «стилистический прием» объединяются совокупности явлений («пучки языковых фактов» – [Харченко 1988:163]) различной структуры, имеющие свои собственные модели построения. Полагаем, что термин «стилистический прием» характеризует фигуры речи и другие явления не столько со стороны их структурного построения, сколько с точки зрения функционального предназначения104: стилистическим называют прием, используемый
ния и типизации и ставшее, таким образом, порождающей моделью» [Харченко 1988: 163]; «стилистический прием представляет собой класс моделей, в основе создания которого лежит единый принцип. В каждом отдельном случае эта модель может иметь самые различные наполнения. Это и создает возможность объединения в рамках каждого такого класса моделей самых различных стилистических образований, различных с точки зрения структуры и с точки зрения передаваемой информации» [Чулкова 1978: 22]. М. Н. Кожина, рассматривая вопрос об отсутствии в языке особого стилистического уровня, пишет, что стилистические приемы могут строиться по известным моделям. И далее немаловажное наблюдение: «В структурном отношении они могут быть лексико-семантическими, словообразовательными, фразеологическими, грамматическими (в том числе синтаксическими), а также собственно текстовыми сущностями (выходящими за пределы предложения), например, композиционными» [Кожина 1993: 15-16]. 104 Аналогично термин «манипулятивный прием» (независимо от того, как его понимают, – языковую / речевую единицу в особой функции или способ обработки информации) характеризует прием с точки зрения цели его использования адресантом. Как манипулятивные приемы, направленные на создание аффекта, рассматриваются многие тропы и фигуры в исследовании Е. Н. Мажар [Мажар 2005]. Т. Г. Хазагеров и Л. С. Ширина пишут о разграничении уловки и приема. Одно и то же явление (например, эквивокация), считают они, может использоваться и как прием (если аудитория принимает экспрессивную установку оратора), и как уловка (если аудитория не принимает установку оратора). «…Каждая уловка может быть использована как прием» [Хазагеров, Ширина 1999: 103]. Мы бы сказали наоборот: прием, используемый с целью обмана или манипуляции, можно назвать уловкой. 144
с определенным стилистическим заданием, обладающий стилистической значимостью105. Вывод о принадлежности лингвистической природы фигур сфере языка и сфере речи был сделан В. И. Корольковым. Рассмотрение фигур как явления языковой системы и как явления речи, отмечает исследователь, предполагает уточнения, одно из которых – «…к какой именно подсистеме языка и к какому именно уровню речевого произведения (текста) принадлежат фигуры?». «…Фигурирование речи, – пишет он, – так или иначе осуществляется в п р е д е л а х р а з л и ч н ы х е д и н и ц синтагматической последовательности: 1) в пределах слова, 2) в пределах словосочетания, 3) в пределах фразы, 4) в пределах абзаца, 5) в пределах главы, 6) в пределах текста» [Корольков 1973: 73]. «Можно думать, что ф и г ур ы к а к я в л е н и е с и с т е м ы я з ы к а – это "всего лишь" общие, абстрактные синтаксические м о д е л и, представляющие собой некие последовательности морфологических классов слов, – рассматриваемые в отвлечении от конкретной лексикофразеологической и семасиологической реализации. В этом аспекте фигуры – во всяком случае, значительная их часть – могут быть представлены в виде своего рода формул… Ф и г у р ы к а к 105
Ср. следующие определения стилистического приема, где на первый план выступают именно функциональная его предназначенность и – следовательно – маркированность: «…стилистическим приемом можно считать любое использование языковых средств, сознательное подчиненное функции выдвижения, с целью создания художественного эффекта» [Азарова 1981: 31]; «…прием – это преднамеренный способ использования определенных языковых средств в целях достижения выразительного (экспрессивного эффекта)» [Маслова 1992: 347]; «любое выразительное средство языка может быть использовано как стилистический прием, если оно типизировано и обобщено для определенных целей художественного воздействия» [Гальперин 1954: 82]; «назовем такой факт языка, который приобретает в определенном речевом акте экспрессивную функцию, стилистическим приемом» [Ситникова 1965: 5]; стилистическая фигура (синоним стилистический прием) – «фигура речи… используемая в эстетической функции» [Москвин 2006а: 317] и др. Стилистически значимым может быть отклонение не только от собственно языковой, но и, в частности, от логико-речевой нормы. Поэтому стилистическим приемом называют парадокс как отклонение от законов логики [Семен 1985]. 145
я в л е н и е р е ч и – это уже не отвлеченные схемы, а построенные по "отложившимся" в системе языка моделям к о н к р е т н ы е с л о в е с н ы е о б р а з о в а н и я, обладающие, помимо синтаксического и морфологического, также всеми другими лингвистическими аспектами, в частности, функционирующие – в масштабе целого текста – как явления стилистические, и в силу этого несущие определенный конкретный смысл». Однако далее исследователь делает оговорку: «Впрочем, так дело обстоит только в принципе. Наличие у фигуры, рассматриваемой как факт речи, одновременно в с е х лингвистических аспектов, по-видимому, возможно не всегда, но присутствие н е с к о л ь к и х из них – вряд ли можно оспаривать» [там же: 74]. В. И. Корольков, таким образом, четко разграничивает конкретные речевые реализации (модификации) фигур и их модификаты в языке. Причем если «превращение» тропа (структурно двупланового явления) из факта системы языка в факт речи, по его мнению, заключается в «заполнении» соответствующей модели конкретным лексико-семиологическим содержанием, то «плюс-фигура» (как одноплановое явление) – это «…заложенная в с и с т е м е я з ы к а программа синтаксической организации бесконечного множества речевых "отрезков", а также… выполнение этой программы на конкретном словесном материале в пределах конкретного текста» [там же: 85]. Идея В. И. Королькова о разграничении фигур как явлений языка и фигур как явлений речи была в дальнейшем развита в работах других исследователей. Так, Н. Н. Василькова разграничивает модель стилистической фигуры и ее спонтанные реализации. Она считает, что модель стилистической фигуры есть «…типизированная схема, содержащая наиболее существенные конструктивные признаки синтагматически образуемых средств выразительности», поэтому она может быть не только охарактеризована описательно с помощью определений, но и выражена схематически, символически или графически. «Модель фигуры, представляя собой языковое явление, в то же время объединяет ряд спонтанных речевых реализаций СФ, каждая из которых составляет особую конкретную экспрессивную единицу текста». Стилистическая же фигура речи как «…реализованная в тексте единица всегда конкретна и единственна в своем роде» [Василькова 1990: 18]. Отсюда и вывод о том, что «…СФ состоят из воспроизводимых, устойчивых моделей языковых единиц» [там же: 2]. Такого же понимания стилистической фигуры придерживается 146
Н. А. Боженкова: «…устойчивая, воспроизводимая модель языковых единиц, обладающая дополнительным статусом самостоятельности, характеризующаяся целым рядом формальных показателей, постоянно актуализируемых в процессе функционирования» [Боженкова 1998: 2]. О моделируемости стилистической фигуры, возможности представить ее схематически106 писали и некоторые другие исследователи, например: в основе стилистических фигур «…лежат определенные схемы, которые в речи могут наполняться каждый раз новыми словами. Эти схемы закреплены многовековой культурной деятельностью человечества и обеспечивают "классичность", отточенность формы» [КРР 1998: 264]. Вот некоторые из схем, которые удалось найти в научной литературе: а b b…/ а b b – анафора («а» – повторяющийся элемент; «b» – неповторяющиеся элементы; косая черта – границы отрезков речи), b b… а / b b… а – эпифора, / а b b… / b b… а / – кольцо, / b b…а / а b b… / – анадиплозис, b… а а а… b b …/ – геминация, / b или а…#.../ – апосиопеза (# – нереализованный, но подразумеваемый компонент, «а» и «b» – реализованные компоненты), /#... b или а…/ – просиопеза, / b1 или а1Уb2 или а2 b3 или а3/ – диакопа, тмезис, парентеза (индексы 1, 2, 3 – естественный порядок размещения компонентов, «У» – вклинивающиеся единицы, нарушающие этот порядок, // – избыточные паузы), / b2 или а2 b2 или а1.../ – инверсия [Хазагеров, Ширина 1999: 276-277]; А1В2С3Д4 – градация с нарастанием, где приращение интенсива к значению передано специальным индексом; А4В3С2Д1 – вариант четырехчленной нисходящей градации. Графически градация может быть передана также в виде ступеней, ведущих наверх, или ступеней, ведущих вниз, а в антитезе противопоставление легко передается с помощью знаков + и – [Василькова 1990: 18-19]. 106
Не случайно термин-латинизм фигуры давался в риторике Андрея и Семена Денисовых, где он и появился впервые (по свидетельству [Василенко 1998: 133]), как синоним двум другим – схиматы, начертания. 147
Мы видим, что при описании фигур исследователями используются различные знаки. В дальнейшем лингвистам еще предстоит унифицировать графические знаки, символы, используемые для обозначения фигур речи. Это возможно, если обратиться к тем символам, которые представлены в работах по логике. Тропы, как и фигуры, по мнению исследователей, являются фактом системы языка и фактом речи. «Тропы как феномены системы языка – будь то метонимия, метафора или ирония – это абстрактные металогические модели, первые компоненты которых соответствуют характеризуемым объектам, вторые – средству характеристики. Возможно, что тропеические модели, вместе взятые, образуют в системе языка некую особую подсистему, сложившуюся в сфере пересечения лексико-семиологической, синтаксической и морфологической систем . Тропы, рассматриваемые как явление речи, есть реализовавшиеся возможности словесной характеристики одного конкретного явления другим, – металогическая модель, "заполненная" совершенно определенным лексико-семасиологическим материалом» [Корольков 1973: 84]107. Возникают вопросы: что понимать под моделью РП как понятия более широкого по отношению к стилистическому приему, стилистической фигуре, тропу и каков статус этой модели в рамках оппозиции «язык – речь»?
2.2. О моделируемости риторического приема в аспекте его соотношения с понятиями речевой тактики и речевого жанра Б. Ю. Норман пишет, что «…в основной своей массе речевые отклонения закономерны и моделируемы; они, говоря словами Л. В. Щербы, "с о ц и а л ь н о обоснованы; их возможности заложены в данной языковой системе…"» [Норман 1994: 214]. Отсюда можно признать, что все РП (а не только стилистические) так или иначе моделируемы (воспроизводимы на основе определенного кон107
О моделируемости тропов и фигур см.: [Хабаров 1985; Береговская 2004; Клюев 1999; Чулкова 1978: 22] и др. 148
структивного принципа их организации), особенно если, вслед за А. П. Сковородниковым, под моделью РП понимать «…не только конфигурацию его элементов в отвлечении от конкретного лексического наполнения (некую схему, служащую "стандартом (эталоном) для массового воспроизведения" ), но и совокупность условий (факторов), составляющих "технологию" отклонения от нормы (или ее нейтрального варианта)…» [Сковородников 2005в: 170]. Понятие модели более широкое, нежели понятие схемы: схема включает в себя лишь конфигурацию, взаимосвязь элементов (см., например, приведенные в предыдущем параграфе схемы некоторых стилистических приемов), но не условия отклонения; модель в идеале подразумевает и то и другое. Причем отклонения от речевой нормы схематически отобразить сложнее, чем отклонения от нормы собственно языковой. Это касается, в частности, приемов, основанных на неверном «прочтении» намерения собеседника и – как следствие – неадекватном ответе («парагерменевтические приемы» [Сковородников 2005б: 108]), напр.: – Что может быть отвратительнее, чем откусить яблоко и обнаружить там червяка? – Откусить яблоко и обнаружить там полчервяка (Анекдоты от Михалыча. М., 2005) – первое высказывание представляет собой риторический вопрос, собеседник же отвечает на него; Армия. Дежурный по парку спрашивает у дневального: – Какая машина вышла? – Зеленая, – отвечает дневальный. – Да, знаю я, что она зеленая! Номер какой, спрашиваю! – А номер белый… (Анекдоты от Михалыча. М., 2005). Однако некоторые приемы, основанные на отклонении от речевой нормы, в частности – логико-речевой, изобразить схематически можно, напр.: Всем можно гордиться, даже отсутствием гордости (В. Ключевский) – паралогический прием (отклонение от закона противоречия: предполагается одновременно наличие и отсутствие гордости), строящийся по схеме есть а: нет а или - а: + а. Модель есть некий инвариант – «абстрактное обозначение одной и той же сущности в отвлечении от ее конкретных модификаций – вариантов» [Солнцев 1990: 80-81]. РП как модификаты (типы, а не как варианты – конкретные реализации в речи) представляют собой определенные трансформы текста или его компонентов. Другими словами, они являются типизируемыми, или моделируемы149
ми, воспроизводимыми по определенному стандарту, что свидетельствует об их системном характере108. Моделируемость РП связана также с существованием «моделей высказываний» [Дымарский 2005: 293] и с тем, что сама речевая деятельность человека моделируема: «это значит, что процессы порождения (производства) и восприятия текста могут быть сведены к некоторым типовым операциям, т. е. могут быть представлены в обобщенном и систематизированном виде» [Норман 1994: 13]. Мотивированность отклонения от нормы (или ее нейтрального варианта) – основной (главный, общий) принцип продуцирования РП и его системообразующее свойство, так как свойство быть приемом (а не ошибкой) отклонение от нормы получает лишь в той или иной конситуации. Если мотивированность отклонения от нормы или ее нейтрального варианта – системообразующее свойство РП, то моделируемость, очевидно, – свойство системоприобретенное109. Г. Пауль в работе «Принципы истории языка» пишет: «…Каждому отдельному индивиду даны весьма широкие возможности, а также и стимулы, чтобы выходить за пределы уже принятого в языке. Следует отметить, что все созданное таким образом оставляет после себя прочный след. Если действие таких новообразований вначале еще и не является настолько сильным и длительным, чтобы сделать возможным их непосредственное воспроизведение, то оно, во всяком случае, облегчает дальнейшее повторение точно такого же созидательного процесса и способствует постепенному устранению препятствий, которые могут стать на пути этих новообразований. Подобного рода повторения могут впоследствии восполнить то, чего, может быть, еще не хватает вновь созданному материалу, и сделать его тем самым достаточно весомым для непосредственного воспроизведения» [Пауль 2004: 54].
108
По мнению В. И. Кодухова, «главное для системы – закономерная воспроизводимость языковых единиц и их признаков» (Цит. по [Сковородников 1981: 187]). 109 «С и с т е м о п р и о б р е т е н н ы е свойства – это те свойства, которыми система и системные отношения наделяют элементы (объекты). Это те свойства, которых нет у объекта вне системы. Объект приобретает их, становясь элементом системы» [Солнцев 1977: 5]. 150
Что касается системонейтрального свойства110, то оно требует дальнейшего пристального изучения, прежде всего в связи с решением проблемы о функциях РП. Можно предположить, что системонейтральным свойством является функциональное предназначение того или иного конкретного приема. Поэтому общие классификации приемов только на основе их функций не выдерживают критики и целый ряд исследователей стремятся совместить при классификации два основания – структурное и функциональное. Учет и структурных, и функциональных особенностей лежит в основе традиционного разграничения тропов и фигур: троп как отклонение от общепринятого значения слов обладает «сильными когнитивными способностями»: он способствует познанию предмета, показывает вещи с новой стороны и, следовательно, хорошо запоминается, позволяя в дальнейшем размышлять над сказанным, в отличие от словесных фигур, которые «…лишены этой возможности рисовать мир заново, находить в его реалиях новое, раньше не замеченное и не познанное. Фигура может только подчеркнуть, рельефно выделить то, что нам уже известно» [Щаренская 2004: 21]. Модель РП является, с одной стороны, речевой, потому что отклонение осуществляется в процессе речи, а с другой стороны – языковой в том смысле, что осуществляется при помощи языковых средств. Более того, модели некоторых приемов могут совпадать с соотносительными с ними моделями предложений (структурными схемами). Так, прием диафоры соотносится с фразеологизированной структурной схемой {N1 есть N1}: А все-таки как бы там ни было, но зануда и есть зануда (А. Шавкута. Метаморфозы). Модель РП является аналитической моделью в ее понимании И. И. Ревзиным, так как исходным материалом для построения этой модели является текст. При этом «под текстом можно понимать как реально произносимый текст , так и , например, последовательность классов, соответствующих элементам реального текста» [Ревзин 1977: 17]. Конечным результатом моделирования являются не конкретные фразы, а описание лингвистических фактов, т.е. модели данного типа можно рассматривать как модели метаязыковой 110
«Системонейтральные свойства объектов несущественны для их отношений с другими объектами в данной системе. Эти свойства могут, однако, оказаться системообразующими в иных отношениях по отношению к другим системам» [там же: 52]. 151
деятельности лингвистов – модели его деятельности, приводящие к установлению тех или иных категорий, связей и т.п. Не случайно оправданному, прагматически мотивированному использованию некоторых РП обучают в школе. Умение удачного построения и использования РП относится к особому уровню владения языком, составляет компонент того, что называют «креативностью речевого владения» (термин из [Ягелло 2003: 142]). Именно со свойством моделируемости связано то, что иногда РП могут продуцироваться человеком в какой-то степени неосознанно. У С.-Ш. Дюмарсэ читаем: «На самом деле я убежден, что в базарный день на Парижском рынке можно услышать больше фигур, нежели за долгие часы академических собраний» 111 (Цит. по [Безменова 1991: 163]). Модель РП можно назвать и синтезирующей112, поскольку результатом действия этой модели являются конкретные речевые факты. В таких случаях говорят о конверсии модели: «Модель А называется конверсией модели Б, если вход модели А соответствует выходу модели Б, а выход модели А соответствует входу модели Б. Ясно, что если конверсия аналитической модели возможна, то она будет синтезирующей, и обратно» [Ревзин 1977: 17]. Аналитически-синтезирующая модель РП является порождающей, так как на ее основе производится бесконечное множество единиц речи благодаря наличию организующих приемы конструктивных принципов и отсюда – свойству моделируемости. Описать модель РП значит прежде всего охарактеризовать принципы, лежащие в основе его построения: общие (принципы отклонения от той или иной нормы) и частные (принципы операционального характера, или 111
Подобная мысль позже была высказана в одном из отечественных источников: «Первобытный эмоциональный язык бывает полон соответственных фигур; это дает французским теоретикам повод напоминать об афоризме: "на рынке за день создается больше фигур, чем в академии за год"» [Горнфельд 1911: 336]. 112 Правда, нужно отметить, что названные типы моделей И. И. Ревзин выделяет применительно к правильным последовательностям элементов или классов элементов языка. Он отмечает, что «…до сих пор в теории моделей привлекаются только факты, соответствующие нормам данного литературного языка» [Ревзин 1977: 49]. Хотя обозначенные им характеристики моделей оказываются пригодными и применительно к модели РП как прагматически мотивированного отклонения от нормы или ее нейтрального варианта. 152
операторы). Так, антистекон и эпентеза строятся на общем принципе отклонения от собственно языковой (а именно – фонетической) нормы (антистекон при помощи оператора замены звука, эпентеза – его вставки), например, с целью речевой характеристики персонажа: «Мамуля, папуля, бабуля! Мы живем о’кей. Кирилл читает лекции, ему дали прохфэссора. – Катя нарочно ломает язык, валяет дурака» (Р. Солнцев. Диалоги с Платоновой); изоколон (полный синтаксический параллелизм) основан на общем принципе отклонения от речевой нормы (нарушается «принцип нерегулярности текстовой структуры» [Скребнев 1975: 82]) при помощи оператора синтаксического повтора, напр.: Поставили чайник, откупорили вино, нарезали торт, съели часть, выпили вино (Л. Петрушевская. Темная судьба). РП обладают различной степенью моделируемости: для построения целого ряда РП достаточно использования какого-то одного оператора (например, замены, повтора, представленных выше в последних двух примерах), другие же приемы строятся на основе нескольких операторов, напр.: Знаю три языка: вареный говяжий, консервированный свиной и немецкий (со словарем) (ЛГ. 2005. № 28). Ядерное слово язык, будучи соотнесено с семантически неоднородными понятиями, одновременно реализует два значения, которые в системе языка свойственны разным словам-омонимам: 1) язык как орган животного в качестве кушанья и 2) язык как система звуковых, лексических и грамматических средств, используемая в качестве средства общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей. Тем самым осуществляется отклонение от языковой (лексической) нормы при помощи оператора наложения (совмещения в слове значений омонимичных слов либо значений многозначного слова) и отклонение от речевой (а именно формально-логической) нормы (логически неоднородный перечислительный ряд). Описание модели каждого модификата возможно после тщательного изучения принципов его построения. Поэтому в данном параграфе мы не ставим себе цель представить модель каждого РП113, 113
Описание моделей отдельных РП и модели их системы в целом считаем чрезвычайно важным, поскольку «эксплицитное выражение системности предполагает переход от простой фиксации свойств объекта к специальному теоретическому конструированию моделей, наиболее адекватно выявляющих системное строение и сущность объекта» [Блауберг, Юдин 1986: 139]. 153
тем более, что общепринятой и полной классификации принципов их построения пока не существует, а попытаемся доказать, что именно наличие модели с обязательным для нее характером отклонения отличает РП от речевой тактики. Под речевой тактикой понимают конкретные речевые (коммуникативные) ходы, определяемые избранной стратегией общения (целеполаганием, планированием возможного хода речевых событий и их конечного результата) и позволяющие достичь поставленных целей в конкретной ситуации. О. С. Иссерс пишет о том, что тактики представляют собой «…одно или несколько действий, способствующих реализации стратегии» [Иссерс 1999:16]114 и что они «жестко "не привязаны" к конкретным единицам того или иного уровня» [там же: 17]. Перефразируя, можно сказать, что одна и та же тактика может быть реализована при помощи различных средств, в том числе РП. И наоборот, один и тот же прием может служить средством реализации разных тактик. Непринятие этого во внимание приводит к недостаточно четкому разграничению, а порой и смешению понятий «речевая тактика» и «риторический (речевой) прием». В результате к РП относят феномены разной речевой природы. Помимо метафоры, метонимии, сравнения РП называют примеры, объяснения, «провоцирование», описание, предупреждение возражения [Мицич 1983: 45-46], «привлечение внимания, сохранение, удержание и навязывание инициативы» [Лемяскина 2001: 61] и некоторые другие явления. Это неудивительно, особенно если учесть, что понятие речевой тактики нередко определяют через понятие речевого приема, напр.: «Стратегия общения реализуется в речевых тактиках, под которыми понимаются речевые приемы, позволяющие достичь поставленных целей в конкретной ситуации» [Гойхман, Надеина 2001: 208]. Факт подведения неоднопорядковых явлений под понятие РП можно объяснить историей становления смежных терминопонятий. Учение о тактиках и приемах сложилось в рамках лингвопрагматики. 114
Хотя мы не можем согласиться с утверждением о родовидовом соотношении понятий «речевая стратегия» и речевая тактика»: «Стратегический замысел определяет выбор средств и приемов его реализации, следовательно, РС и РТ связаны как род и вид (Х. Я. Ыйм, Е. М. Верещагин)» [Иссерс 1999: 16]. Такая же точка зрения, как у О. С. Иссерс, представлена в [Алефиренко 2005: 207]. 154
Так называемые «лингвистически неохарактеризованные приемы», т.е. приемы, которые могут получать различное языковое выражение, издавна относили к фигурам. «В самом деле, – пишет Г. Г. Хазагеров, – детальное перечисление событий (анамнезис) может носить плеонастический характер, т. е. строиться на определенной фигуре, но может и не носить такого характера. С другой стороны, плеонастично может быть построено нагромождение похвал или обвинений с целью суммирования принесенного ущерба (аккумуляция). Похвала противнику (рационация) может как предполагать иронию (антифразис), так и не предполагать ее» [Хазагеров 1984: 27]. Интересные наблюдения представлены и у Галиба Атики: «Опыт классификации фигур в классических риториках дает основание для выделения таких категорий, как собственно фигура и риторический прием. Например, эпитет или превращение (мы живем, чтобы есть, а не едим для того, чтобы жить) можно рассматривать как риторическую фигуру, а заимословие или предупреждение, которые не обладают выраженными конструктивными чертами, как риторические приемы» [Галиб 1994: 127]. Тем самым «лингвистически неохарактеризованные» явления, или, что, очевидно, то же самое, явления, не обладающие «выраженными конструктивными чертами», отграничивались от риторических фигур (фигур речи) и обозначались как РП, но лишь у некоторых исследователей. В то время, когда риторика в нашей стране была под запретом и сведения о фигурах речи «перекочевали» в учебные пособия по речеведению, стилистике, культуре речи, «лингвистически неохарактеризованные» явления (а это во многих случаях речевые тактики) оказались попросту забытыми. И лишь в связи с возрождением риторики и развитием учения об элокутивных средствах языка / речи усилился интерес к понятийному и терминологическому аппарату этой области знания. Однако многие исследователи, как и Галиб Атика, понятия РП и фигуры речи продолжают использовать для обозначения тех фактов, которые являются скорее речевыми тактиками или речевыми жанрами, нежели РП115. 115
См. об этом [Копнина 2001б; Сковородников 2004б]. О нецелесообразности отнесения речевых жанров к фигурам (и, следовательно, РП) писали Т. Г. Хазагеров и Л. С. Ширина, однако они все же включили соответствующие терминологические обозначения тактик и жанров в «Словарь риторических приемов» [Хазагеров, Ширина 1999]. 155
В. П. Москвин пишет о «фигуре описания объекта (природы, интерьера и т.д.)», которую именует дескрипцией. «Разновидности ее, описанные еще в старинных риториках, очень разнообразны: это изображение звезд (астротезия), ветра (анемография), различного рода водоемов и источников: рек, озер, морей и проч. (гидрография), какой-либо местности, страны, территории (география), деревьев (дендрография), обстоятельств или ситуации (диаскейя), действия или события (прагматография), лица или вымышленного существа: черта, русалки и т.д. (прозопография), какой-либо местности (топография), внешности или характера человека (характерисма)116, народа (хорография), определенной исторической эпохи, времени года или суток (хронография), произведения искусства (экфрасис) и др.» [Москвин 2006в: 66]. Исследователи группы µ, говоря о подобной попытке Цв. Тодорова «спасти термины», иронически пишут: «Почему бы тогда не ввести и термин цефалография для описания головы, подография для описания ноги, а также термин порнография, который Сартр неоднократно использует в "Добродетельной шлюхе"? Совершенно очевидно, что даже если эти нескончаемые перечни и не были глубинной причиной упадка риторики, то они, во всяком случае, стали ярким свидетельством ее заката» [Дюбуа и др. 1986: 30]. Однако нас интересует не вопрос целесообразности использования терминов, а вопрос о правомерности трактовки описания объекта как фигуры или РП, а не как, например, функционально-смыслового типа речи, который может оформляться при помощи различного рода средств – как фигуральных, так и нефигуральных. «К фигурам относят и описание эмоций, чувств, состояний, – пишут Т. Г. Хазагеров и Л. С. Ширина, – например, абоминацию (выражение ненависти), ару (заклинание, проклятие, молитва с просьбой наказать врага), бенедикцию (восхваление, прославление), адмирацию (восхищение), дубитацию (сомнение), индигнацию (выражение негодования), инсультацию (оскорбление), кверимонию (жалобы, упреки в адрес богов), эвлогию (прославление исторического лица, персонажа), эвхаристию (выражение благодарности), экскузацию (выражение полной невиновности, оправдание). Фигу116
Ср. терминологический разнобой: характерисма (описание внешности или характера человека) у В. П. Москвина и характеризм (описание привычек и характеров людей), прозопографию (описание внешности) у Т. Г. Хазагерова и Л. С. Шириной [Хазагеров, Ширина 1999: 277]. 156
рами мысли нередко называются и различные психологические приемы, формы рассуждений: амфидиортозис (предупреждение обвинения чистосердечным признанием), апактезис (возврат к доводу, возможно, отброшенному из-за вспышки гнева), апофазис (разбор альтернатив и отвержение всех, кроме одной), компробация (предварительное одобрение и похвала справедливому решению, которое на самом деле еще не принято), эциология, этиология (сообщение об особой важности того, что на самом деле еще будет сказано), эпитропа (мнимая уступка, сопровождаемая злой насмешкой)» [Хазагеров, Ширина 1999: 277-278]. Исследователи справедливо отмечают, что в этом случае границы термина «фигуры мысли» становятся слишком расплывчатыми [там же: 277]. В работе В. П. Москвина [Москвин 2006а] нескольким из названных «фигур мысли» даются иные определения: бенедикция – благословение; инсультация – издевательство, передразнивание; кверимония – жалоба, упрек [там же: 260]; компробация (похвала, лесть, обращенные к слушателям) [там же: 252]. В. П. Москвин пишет, что некоторые речевые акты117 и многие психологические приемы118 традиционно относят к числу фигур [там 117
К таким речевым актам (фразам, используемым с определенной коммуникативной целью) помимо названных выше «фигур мысли» (а именно: абоминации, ары, бенедикции, евхаристии / эфхаристии, дубитации, индигнации, инсультации, кверимонии и бенедикции) относят: адмирацию (выражение восхищения), аккузацию (обвинение), антирезис (осуждение чьего-л. мнения или авторитета), аффирмацию (эмфатически усиленное утверждение), евстафию (обещание быть постоянным в достижении цели и чувстве), депрекацию (мольбу о предотвращении зла), дехортацию (отговаривание), диэзис (клятву), интеррогацию (аргумент, выраженный в виде вопроса), мемпсис (жалобу с просьбой помочь), оминацию, или катаплексию (предсказание бед и несчастий), онедизм (упрек в неблагодарности), оркос (клятву в том, что сказанное истинно), парамитию, или консоляцию (утешение, ободрение), перклюзию (предупреждение об опасности), проклизу (вызов противнику), эксутенизм (выражение презрения), энкомию (похвала). Исследователь справедливо замечает, что многие речевые акты имеют текстопорождающую (= жанропорождающую) силу. В этот же ряд почему-то попали риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение [Москвин 2006а: 260-261]. 118 Среди психологических приемов В. П. Москвин называет дубитацию (аддубитацию, апорию), катаплексию (катаплексис), названные им же на с. 260 речевыми актами, а также: адхортацию, или адмоницию, или про157
же: 260, 252]. Вероятно, поэтому он включает их в свой словарь «Выразительные средства современной русской речи…». Мы же считаем, что необходимо пересмотреть традиционные перечни риторических фигур и приемов, тем более что сам В. П. Москвин призывает освободиться от гипнотического влияния традиции, некритического восприятия концепций прошлых лет и эпох [там же: 24]. Для этого нужно найти критерий, который позволил бы отграничивать троп (побуждение к действию путем обещаний и угроз); акисму (отказ от предмета своего желания с целью дать затем вынужденное согласие); амфидиортозис (предупреждение обвинения чистосердечным признанием); анакойнозис, или коммуникацию (апелляция к мнению аудитории); апагорезис (запрет, усиленный угрозой); аподиксис (аргумент к традиции); асфалию (предложение самого себя в качестве гарантии на что-л.); беневоленцию (вежливость, прикрывающая раздражение); дилемму (предложение оппоненту двух одинаково неприемлемых альтернатив); инопинацию (притворное удивление); инсинуацию (действия, направленные на завоевание симпатий аудитории); мартирию (апелляцию к собственному авторитету); патопею (нарочитую демонстрацию своих чувств); филофронезис (успокаивание противника посредством вежливой речи и обещаний) и другие. В этом же ряду, кстати, у исследователя располагаются такие явления, как эффект обманутого ожидания, авторское мы, акцентирование, ретардация. Сюда же, по его мнению, стоит отнести способы создания комического [там же: 252253]. Обращаем внимание, что обозначенные выше терминопонятия психологических приемов и речевых актов взяты В. П. Москвиным (в соответствии с его ссылками) из книги Т. Г. Хазагерова и Л. С. Шириной [1999], а также из публикации: Burton G. O. Silva rhetoricae // http://humanities.byu.edu/rhetoric/silva.htm. А. В. Филиппов и Н. Н. Романова в библиографии также указывают несколько источников 60-х годов на иностранных языках [Филиппов, Романова 2002: 153-154]. Т. Г. Хазагеров и Л. С. Ширина в «Словаре риторических приемов» пишут, что в основу отбора и описания корпуса фигур ими были положены «три достаточно авторитетных источника»: Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966; Lanham R. A. Handlist of rhetorical terms. Los Angeles, 1968; Lausberg H. Handbuch der literarischer Rhetorik. München, 1960. В словаре О. С. Ахмановой не представлены указанные авторами термины (абоминация, ара, бенедикция, индигнация, инсультация, кверимония, эвхаристия, экскузация и другие). Многие из этих терминов не встречались нам также при чтении русских риторик. Отсюда можно предположить, что они заимствованы из зарубежной лингвистики, в которой проблема соотношения интересующих нас понятий также не разрешена. 158
РП от речевой тактики. Полагаем, что таким критерием может служить свойство моделируемости и, следовательно, воспроизводимости РП по определенному образцу, схеме. При этом еще раз оговорим, что под моделью РП мы понимаем определенный механизм отклонения от нормы или ее нейтрального варианта. Признаком, разграничивающим РП и речевую тактику, является характер отклонения от нормы: для РП отклонение от нормы есть абсолютный (обязательный) признак, а для тактики этот признак относителен (тактики, как и приемы, могут строиться на отклонении от нормы, поэтому они могут быть подразделены на основе нарушения / соблюдения принципа кооперации119). Различие между речевой тактикой и РП рассмотрим на примере «шельмования» противника. Статус явления, именуемого «шельмованием» (опорочением), в литературе определяется по-разному: как РП [Лебединская 1992], как принцип120 «грязной каймы» («воздействие на неугодного») и одновременно как прием [Таранов 2002: 157]. Примечателен тот факт, что, по наблюдениям П. С. Таранова, ошельмовать кого-либо можно 119
«…Применительно к речевым стратегиям кроме принципа Кооперации можно говорить о принципе Некооперации, базирующемся на приоритете интересов говорящего над интересами слушающего. Установка на кооперацию / некооперацию является одним из важных параметров в описании речевых стратегий и тактик» [Иссерс 1999: 12]. 120 По мнению П. С. Таранова, принцип и прием (правда, как понятия нелингвистические) соотносятся как «определяющее» и как «последующее». «Принцип, – пишет он, – это некая социальная данность, особенность которой в том, что она способна затрагивать наш укладный комфорт, душевный настрой и наши жизненные интересы. Прием предполагает постановку этой "данности" на учет и вплетение, при необходимости, в планируемую против кого-то (или вопреки кому-то) комбинаторику отношений, с тем чтобы общий результат мог уверенно программироваться, достаточно надежно прогнозироваться и доступно контролироваться». Прием исследователь рассматривает как «всего лишь какой-то из множества допустимых ходов», который осуществляет действие принципа [Таранов 2002: 269]. В то же время приемами П. С. Таранов называет некоторые формулируемые им правила, принципы (см., напр., в этой же работе с. 79, 97, 156, 178 и многие другие). Это свидетельствует о недостаточной четкости определения понятия «прием» не только в лингвистике. Поэтому разграничение РП со смежными понятиями может оказаться полезным и для взаимодействующих с языкознанием наук. 159
при помощи 185 способов: «от простого "начальственного" прилюдного упрека до иезуитских ходов по моральному раздавливанию и физическому изничтожению» [там же: 166]. В качестве речевых приемов, реализующих тактику «шельмования», используются, например, окказиональные слова, имеющие негативные оценочные коннотации и вызывающие нужные адресанту ассоциации, прием ложной расшифровки аббревиатур, прием «наклеивания ярлыков». «…Когда усилия сотен тысяч людей, работающих в сфере обслуживания, именуют коротко и хлестко – стервис, когда прославленный старик из Одессы пускается в "тончайший" лингвистический экскурс и выясняет, что СНГ – это эссен "Г" (от немецкого "essen" – кушать и "Г" – от русского "г…"), когда том вышедших из печати статей публициста Невзорова открывается первой страницей со словами Пердисловие, то все это не просто так, не случайно. А намеренно, нацеленно» [там же: 166-167]. Основной принцип построения (как и принцип использования) этих приемов очевиден – отклонение от нормы. Принцип отклонения реализуется при помощи таких частных принципов, как перестановка (ср. предисловие и пердисловие) и контаминация (русского и иноязычного слова в случае с СНГ; наложение слов сервис и стерва, дающее стервис). В результате во всех случаях происходит «переосмысление слов под влиянием ассоциаций по близкозвучию», но не как ошибка, имеющая название адъидеáция (термин из [Москвин 2000: 160]), а как запланированный адресантом эффект. Что касается «навешивания ярлыков», то в основе этого приема лежит отклонение от закона достаточного основания: осуществляется "приклеивание" негативного признака объекту без какой-либо аргументации или недостаточной аргументации своей точки зрения, напр.: …Уссу, до сих пор являвшемуся марионеткой, корректирующей телодвижения законодательной власти, уготована роль бессловесной шестерки, передающей направление руля, который находится в руках криминальной верхушки России (МК. 2002. № 38). Целевое назначение таких приемов в том, чтобы «…утвердиться, чтобы растворить собеседника в ярком фоне запущенного в него уничижения, чтобы пересилить человека искусно преподнесенными ему преградами и помехами, чтобы беспрерывными оплевываниями "вынуть" его из общественного процесса, сделать как бы неуместным и ненужным во цвете дел, чтобы в такой оболочке человек предстал полуживым еще при жизни» [Таранов 160
2002: 167]. Конечно, в таких случаях речь не может идти об оправданности отклонения от этической нормы, но можно говорить о мотивированном (объяснимом) намерением адресанта отклонении от нормы с целью манипулятивного воздействия на общественное мнение121. Поэтому функции РП гораздо шире, нежели их экспрессивное назначение. Скорее речевыми тактиками, нежели РП в нашем понимании, являются, например, следующие феномены, обозначенные как «приемы речи» в книге А. В. Филиппова и Н. Н. Романовой «Публичная речь в понятиях и упражнениях»: • «прозаподозис (греч. prosapodosis – "возвращение к") – разделение альтернатив (двух частей) вопроса и решение каждой посредством добавленного в конце аргумента» [Филиппов, Романова 2002: 89]; • «упоминание – введение в речь ссылки на какой-либо исторический факт, событие, лицо, поверье, легенду и т.п.» [там же: 93]; • «гипотипоз (греч. hypotiposis – буквально "отпечаток перед, впечатление перед") – живое описание, словесное изображение предмета так, чтобы слушатели представили его в своем воображении» [там же: 102]; • «оптация (лат. optatio – "желание") – выражение горячего желания получить что-то для себя или других, чему придают большое значение» [там же: 106]; • «депрекация (лат. deprecation – "мольба, просьба о предотвращении, прощении, посылание проклятий") – выражение мольбы к человеку со ссылкой на наиболее существенные мотивы, чтобы взволновать его, с торжественностью, подчас с проклятиями» [там же: 107] (ср. выше с иной трактовкой этого термина); • «транзиция (лат. transition – "переход") – краткое напоминание о том, что было или что имеет место, и такой же краткий переход к тому, что должно из этого следовать» [там же: 138]; • «мейозис (греч. meiosis – "умаление") – признание говорящим ошибочности своих прежних взглядов и сожаление по этому поводу как прием убеждения в новых взглядах» [там же: 139]122 и другие. 121
О манипулятивном потенциале РП см. [Копнина 2007]. Ср. с мейозисом как «обратной гиперболой». В результате включения речевых тактик в перечень «приемов речи» в системе риторической терминологии происходит появление многозначных терминов или терми161 122
Не являются РП (как и выразительными средствами, тропами или фигурами) некоторые речевые феномены, включенные В. П. Москвиным в терминологический словарь выразительных средств современной русской речи, напр.: • адината (греч. adinaton – "невозможный") во втором значении как «указание на невозможность выразить словами чувство, мысль…» [Москвин 2006а: 40]; • антисагога (греч. antisagoge – "выведение против") – хрия, усиленная антитезой и выводом, содержащим «похвалу добродетели и осуждение порока» (Т. Г. Хазагеров, Л. С. Ширина) [там же: 62]; • апофазия (греч. apophasis – "отказ, отрицание") в первом значении как «психологический прием… состоящий в критическом рассмотрении ряда аргументов и отклонении всех, кроме одного, самого сильного, приводимого в конце рассуждения» [там же: 68]; • диасирм (греч. diasyrmos – "разрывание на куски") во втором значении как отрицание аргумента, усиленное смешным сравнением [там же: 98]; • традукция (лат. traductio – "перевод, перенос") в первом значении как прием аргументации с опорой на сравнение [там же: 326]. Речевой жанр, как и РП, – явление моделируемое, однако характер модели у них разный. Когда говорят о модели речевого жанра, то имеют в виду схему, по которой могут получать характеристику тексты различной жанровой принадлежности (эта модель обусловлена типичной речевой ситуацией и темой общения [Труфанова 2001: 62]), когда же мы говорим о модели РП, то имеем в виду наличие у РП определенных конструктивных принципов организации, благодаря которым они оказываются воспроизводимыми. Один и тот речевой жанр может быть реализован при помощи различных РП. Проиллюстрируем это на материале афористических высказываний: Лучше ничего не делать, чем делать ничего (Л. Толстой) – использование местоимения в функции существительного (отклонение от грамматической нормы при помощи оператора конверсии) и совмещение речевых омонимов в рамках одного высказывания (отклонение от нормы нерегулярной встречаемости однородных единиц при помощи оператора совмещения); нов-омонимов, использование которых в научной речи без определений может привести к непониманию адресатом ее содержания. 162
Дурак, сознавший, что он дурак, есть уже не дурак (Ф. М. Достоевский) – псевдопротиворечивое высказывание (схема: А есть не А, если Б) (нейтрализуемое отклонение от логико-речевой нормы, в основе – оператор совмещения контрарных понятий); Жизнь пишет историю начерно, молва перебеляет ее страницы (Ю. Нагибин) – метафорическое олицетворение (в основе – отклонение от языковой нормы при помощи оператора переноса). Большое разнообразие приемов представлено в малоформатных комических жанрах (анекдоте, комической новостийной заметке, частушках, фрашках, комических паремиях и других), что убедительно показано в диссертации Т. И. Дамм [2003]. Нужно также отметить, что РП используются далеко не во всех жанрах и не во всех тактиках. Г. Г. Хазагеров пишет, что в эллинистических и средневековых трактатах в число тропов попали такие явления, которые сегодня мы могли бы отнести к малым речевым жанрам. Это такие явления, как парабола (притча), которая основана на развернутой метафоре, и парадигма, строящаяся на «глобальной метонимии» [Хазагеров 1997: 13]. Сюда можно добавить загадку (Аристотель называл загадки «хорошо составленными метафорами» [Античные теории… 1996: 188]), рассматриваемую как прием Цицероном [там же: 234], а в наше время в качестве одного из стилистических средств Б. Т. Ганеевым [2004: 224]. Таким образом, именно наличие модели, для которой отклонение от нормы – обязательный признак, является отличительным свойством РП, служащего лишь одним из способов оформления речевого жанра123 или воплощения (реализации) речевой тактики.
3. Риторический прием в системе языка и речи Системный подход к изучению РП обязательно предполагает рассмотрение вопроса об их отношении к системе языка и системе речи, поскольку структурными свойствами системного объекта являются связи двоякого рода: «…связи между элементами целого (системы) и связи системы как целостности с другими системами» 123
Жанропорождающую силу некоторых фигур отметил В. П. Москвин в кн. [Москвин 2006а: 35]. 163
(курсив наш. – Г. К.) [Общее языкознание 1970: 25-26]. Эти структурные свойства есть у любой системы, так как «любая система… представляется системой в системе, при этом свойства первой системы (части) во многом определяются второй, более широкой системой, в состав которой она входит» [Кузнецова 1983: 19] и которая является средой по отношению к первой. Мы принимаем концепцию, согласно которой система есть «…такое функциональное образование, целостность которого обеспечивается благодаря наличию конкретного способа согласования структуры с субстанцией» [Общее языкознание 1970: 30]124. Не останавливаясь на истории изучения языка как системы (этот вопрос изложен во многих источниках), отметим, что особенность языковой системы заключается в ее «многослойности» [Тарланов 1995: 8]: язык есть «система систем» [Всеволодова 1988: 28; Общее языкознание 1970: 74; Солнцев 1977: 41; Алефиренко 2005: 77; Гречко 2003: 69 и др.], или «система подсистем», образующих его уровни, которые находятся между собой в иерархических отношениях. «…Совокупность РП, конечно, не представляет собой системы в том смысле, в каком говорят о системе языка, – пишет А. П. Сковородников. – Даже стилистические приемы в узком смысле этого слова (фигуры и тропы), являющиеся, по сути дела, трансформами языковых единиц разных уровней, не находятся в отношениях деривационной иерархии, свойственных языковым единицам разных уровней» [Сковородников 2005в: 171-172]. Тем не менее у системы РП есть целый ряд свойств, сближающих ее с системой языка. Как язык является системой разнородных (гетерогенных) единиц [Общее языкознание 1970: 63; Кузнецова 1983: 21 и др.], так и система РП является гетерогенной системой. Гетерогенный харак124
Такое понимание структуры и системы представлено в работах представителей различных наук. Ср., напр.: «Основная составляющая системы – это ее субстанция, элементы. В целом же система состоит из элементов и структуры (совокупности связей элементов)…», «структура – это одна из сторон системы, относящаяся и с к л ю ч и т е л ь н о к с х е м е о т н ош е н и й (внутри и вне изучаемого объекта)» [Кузнецова 1983: 15, 17]; «…определение структуры, исключающее из нее элементы (структура лишь способ связи, лишь совокупность отношений, связей между элементами системы), возможно, является более точным» [Оруджев 1973: 69]. 164
тер системы можно продемонстрировать приемами, представляющими собой единицы разных уровней, напр.: Не юбилейте (В. Маяковский) – окказиональный (не узуальный) глагол (по аналогии с не болейте); На семинаре, за обедом в ресторане, во время вечерней прогулки она не выпускала его из виду и улыбалась ему нежной пираньей улыбкой всякий раз, когда они сталкивались взглядами (ООРS! Декабрь 2005 г.) – словосочетание-оксюморон; Н е б ы л о гвоздя – подкова пропала, / Н е б ы л о подковы – лошадь захромала (Стихи матушки Гусыни. Пер. С. Я. Маршака) – анафора (выделена курсивом), и изоколон (параллелизм конструкций и форм частей речи). Именно свойством гетерогенности объясняется множество классификаций приемов, по-разному отражающих местоположение компонентов в системе. Признано, что определение системы как набора элементов и связей без указания на образуемую их сочетанием функциональную целостность и единство является неточным. «…Главная функция языка связана именно с его ролью в человеческом обществе, т.е. его положением в существующей надсистеме и связями внутри этой надсистемы» [Общее языкознание 1970: 56]; «…только с функциональной точки зрения можем мы выявить компонентный состав системы, перечень ярусов, структуру взаимодействий и т.д…», именно «ориентация на функцию системы как целостности, т. е. на г л а вн у ю функцию системы, позволяет выявить ч а с т н ы е функции каждого ее компонента и яруса» [там же: 81]. Тем самым социальность и функциональность признаются важными признаками языка. Известно, что еще представители Пражского лингвистического кружка определили язык как систему средств выражения, служащих какой-либо определенной цели, т. е. как функциональную систему. Важно, что «…в учении о языке – функциональной системе фактически решается проблема речевой системы» [Пономаренко: 137]. Еще В. В. Виноградов допускал наличие особой системности экспрессивных языковых / речевых единиц, сходных по типу коннотации и по выполняемым стилистическим функциям (см. об этом [Сковородников 2005в: 172]). РП обладают функциональной целостной организацией благодаря тому, что входят в единства более высокого порядка, в надсистему языка и надсистему речи. «В составе надсистемы система приобретает новые структурные характеристики, обеспечивающие целостность и эффективность надсистемы и выражающие новый тип связей. Эти структурные характеристики и 165
являются функциями системы» [Общее языкознание 1970: 19]. Совокупность РП обладает важным системным качеством – качеством целостности125, поскольку все РП представляют мотивированные отклонения от нормы или ее нейтрального варианта и выполняют общую функцию (наряду с частными специфическими функциями, свойственными тому или иному приему126) – функцию речевого воздействия и, прежде всего, экспрессивную функцию в ее разнообразных проявлениях в конкретных актах речевой коммуникации. Для иллюстрации функциональной общности РП (наряду с частными специфическими функциями, свойственными той или иной группе приемов, все РП выполняют функцию речевого воздействия) сравним, например, функции паралогических конструкций в следующих текстах, в которых сознательно нарушен закон непротиворечия. 1. И вдруг оно (существо. – Г. К.) чувствует, как чья-то рука лезет в его карман, которого, вообще-то говоря, у него и нету (М. Зощенко. Голубая книга). Перед нами так называемое «самофальсифицируемое высказывание» (по А. Д. Шмелеву [Булыгина, Шмелев 1997: 456]), в котором представлено одновременное утверждение или отрицание факта (утверждение дается в презумпции, т. е. подразумевается) и которое в данном случае используется с целью создания комического эффекта. 2. На кнопку нажимаю и говорю, сколько хочу. Мой «Избранный», тебя я обожаю, ведь я за разговоры больше не плачу. Безлимитный тариф «Сонет-избранный». 110 долларов в месяц – и говори, сколько захочешь. Подключение – ноль. Пакет дополнительных услуг (Авторадио. 05.04.2003). Утверждение «больше не плачу», которое воспринимается как «больше платить не надо» (а не как «не 125
Целостность системы есть наличие элементов, свойства и функции которых взаимоопределимы со свойствами целого [Кузнецова 1983: 18], единство элементов, имеющих определенную структуру [Алефиренко 2005: 89]. 126 «Функция системы есть интегративный результат функционирования ее компонентов, тогда как функции этих последних – во многом результат воздействия на них общесистемных функций» (В. Г. Афанасьев. Цит. по [Сидоров 1987б: 14]). 166
плачу больше, чем 110 дол.), противоречит фразе «110 долларов в месяц» с эллипсисом глагола «плати». Паралогический прием используется с целью побуждения слушателя к определенному действию, выполняет суггестивную функцию. Несмотря на разный характер двух приведенных выше примеров, РП здесь один – отклонение от одного из логических законов с целью оказания нужного речевого воздействия на адресата. Признание общей функциональной направленности РП не отвергает мысль о том, что каждый прием в большей или меньшей степени ограничен с точки зрения возможностей его применения – ограничен и сферой использования, и своими функциями (идея ограниченности в употреблении стилистических приемов представлена в [Гальперин 1974: 127]). У системы РП есть еще одно свойство, которое сближает ее с системой языка, – это динамический характер и отсюда множество синкретичных случаев. Система языка мыслится как «открытая динамическая система», внутри которой «…всегда происходит процесс появления новых элементов и отмирания старых, процесс замены одних элементов другими, процесс перегруппировки имеющихся элементов и их переосмысления в соответствии с наиболее общими для данного состояния системы принципами ее организации» [Общее языкознание 1970: 52]. Динамический характер языковой системы, как показали исследования В. В. Бабайцевой, проявляется в ее способности создавать многочисленные переходные, синкретичные образования127. Синкретичные явления присутствуют и в системе РП (о них речь будет идти во второй части данной работы), что обеспечивается дискретностью ее элементов128. Доказательством динамичности системы РП может служить также явление нейтрализации, о котором мы уже писали выше.
127
«Переходность – такое явление в языке, которое скрепляет языковые факты в целостную систему, отражая взаимосвязь и взаимодействие между ними и обусловливая возможность трансформаций (диахронных преобразований)» [Бабайцева 1967: 21]. О переходности и синкретизме языковых явлений см. также [Штайн 2001]. 128 «Дискретность элементов определяет потенциальную возможность комбинирования элементов между собой как в плане парадигматики, так и в плане синтагматики» [Солнцев 1977: 54]. 167
РП в нашем понимании (как мотивированные отклонения от нормы или ее нейтрального варианта) относятся прежде всего к речи129, однако поскольку существует возможность «движения» языковых / речевых явлений по градационной шкале «норма – отклонение от нормы», то приемы в случае нейтрализации отклонения могут входить в систему языка и занимать то или иное место в системе ее отношений. Пути такого вхождения наиболее подробно описаны и закреплены терминологически применительно к тропам: речевой (индивидуально-авторский) троп → языковой троп130 → «мертвый» («стершийся») троп, который уже не является РП. Тем самым намечаются две ступени вхождения приема в систему языка: относительная (когда прием является отклонением от нейтральнонормативного варианта нормы и сохраняет экспрессивный заряд) и абсолютная (теряет экспрессию и, становясь нейтральной нормой, перестает быть приемом). В некоторых случаях определение границ между абсолютной и относительной нейтрализацией затруднительно. Ср.: 1) господь-мосподь, девы-мевы у Хлебникова (речевая, индивидуально-авторская единица) и 2) шуры-муры («шашни») – языковая единица (зафиксирована в «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой [2003: 902]); – Однако ты чего туда поперся, Владимыч, на эти танцы-шманцы (А. Афанасьев. Комариное лето). Слово танцы-шманцы неоднократно встречается в речи людей (иногда с добавлением: танцы-шманцы-обниманцы), его нет в «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, но помещено в «Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи» с пометами «груб. шутл. неодобр.» [Химик 2004: 601]. Первый компонент единицы шуры-муры самостоятельно в языке не представлен, в отличие от танцы-шманцы.
129
Не случайно применительно к оправданным отклонениям используют термины «фигуры речи» и «приемы речи», «речевые приемы». 130 От языковых тропов отграничивают так называемые вынужденные тропы [Женетт 1998: 210] – тропы, служащие наименованиями предметов: нос корабля, ручка чайника, крыло самолета, подошва горы и т.п. Близкими к ним Л. В. Чернец считает тропы-термины, напр.: нервные волокна, грудная клетка, поле зрения и др. [Чернец 2001: 12]. В них переносное значение стало основным (это «эксметафора» по [Черкасова 1968: 29]), то есть произошла абсолютная нейтрализация отклонения. 168
В результате относительной нейтрализации и происходит перекрещивание131 и наложение системы РП и подсистем языка и речи. В языке перекрещивание и наложение подсистем происходит за счет того, что «…при переходе от одной подсистемы к другой происходит лишь постепенное и частичное снятие различий, действенных в пределах исходного уровня, и постепенное возникновение новых» [Общее языкознание 1970: 76]. Поэтому прагматически мотивированные отклонения «не ведут к деструкции системы [системы языка. – Г. К.], а, напротив, являются выражением ее креативного и адаптивного потенциала» [Радбиль 2006: 7]. Предположительно промежуточный между языком и речью132 характер моделей РП, продуцируемых на основе отклонения от нормы (а не ее нейтрального варианта), существование синкретичных приемов, наличие у системы РП как дифференциальных, так и интегральных с языковой и речевой системами признаков способствуют тому, что мы наблюдаем перекрывание и взаимопроникновение («интерпенетрацию» [там же: 73]) этих систем. Известно, что язык – это семиотическая (знаковая) система. Закономерно возникает вопрос: можно ли рассматривать РП как знаки и, соответственно, систему РП как знаковую систему. Этот вопрос, являясь сложным, очевидно, не имеет единственного решения уже хотя бы потому, что РП, несмотря на общий принцип их продуцирования, структурно очень разнородны: одни по своим границам совпадают со словом, другие – со словосочетанием, третьи – с высказыванием и даже текстом. Свойством знака считают его регулярную воспроизводимость в единстве плана выражения и плана содержания. Но если слово, отмечает М. Я. Дымарский, воспроизводится целиком (даже при наличии сдвигов в плане содержания, которые ин131
Об отсутствии четких границ между подсистемами, в частности подсистемами языка, писали многие исследователи, в том числе Э. В. Кузнецова. Этот тезис она аргументирует наличием в языке формальных совпадений единиц разного типа. Например, «и» может быть фонемой, морфемой (книг-и) и словом (союз и) [Кузнецова 1983: 24]. 132 «Всех исследователей интересовало, что же связывает язык и речь, исподволь складывалась мысль о каком-то промежуточном явлении между языком и речью» [Хроленко, Бондалетов 2004: 219]. Симптоматичной М. Я. Дымарский считает точку зрения В. В. Дементьева о речевом жанре как явлении «переходном между языком и речью» [Дымарский 2005: 295]. 169
дуцированы контекстом), то при воспроизведении модели предложения возможны сдвиги и в плане выражения, и в плане содержания. Поэтому при порождении высказывания процессы воспроизводства и производства протекают параллельно. Исследователь приходит к выводу, что «высказывание – это минимальное речевое произведение, которое, как и любая манифестация языка, имеет знаковую природу, но само по себе не является языковым знаком» [Дымарский 2005: 308]. И далее М. Я. Дымарский высказывает продуктивную мысль о существовании в речевой деятельности явлений разной степени «знаковости»: «В речевой деятельности, – пишет он, – существуют как собственно языковые знаки, так и знаковые образования разной степени и разного характера воспроизводимости; некоторые из них в разной степени приближаются к прототипическому знаку – слову (и их, соответственно, можно именовать квазизнаками), – но превратиться в такой же прототипический знак эти "квазизнаки" могут только при условии их полного закрепления в лексикофразеологической системе языка в качестве целиком воспроизводимых речений, т.е. при полном взаимном закреплении планов выражения и содержания» [там же]. Эта идея М. Я. Дымарского применима к РП, которые обладают разными степенями моделируемости и, следовательно, воспроизводимости. Чем чаще и легче воспроизводится какой-либо прием в единстве его формы и содержания, тем ближе он перемещается по градационной шкале «отклонение от нормы – норма» в сторону нормативности и тем быстрее закрепляется (как результат нейтрализации отклонения) в языковой системе в качестве устойчивой единицы. В последние десятилетия все более утверждается тезис о системном характере не только языка, но и речи. «На основании различных критериев современная наука определяет язык как вторичную материальную естественную вероятностную многомерную динамическую открытую знаковую семасиологическую систему. Аналогичным образом квалифицируется и система речи» [Пономаренко 2006: 137]. Считают даже, что речь представляет собой такую систему, «…элементы которой находятся между собой еще в более тесной взаимосвязи, чем элементы языковой системы» [Горячук]. Обоснованию речевой системности посвящены работы М. Н. Кожиной, Е. В. Сидорова, А. А. Припадчева, Т. В. Матвеевой, 170
Г. Г. Матвеевой и других исследователей. Речевую системность изучают в разных аспектах, например, М. Н. Кожина – в стилистическом (она пишет о речевой системности функционального стиля), Е. В. Сидоров – в речедеятельностном (он говорит о системности акта речевой коммуникации, системности текста и системности текстового компонента, обосновывая тем самым общую системность речи). В. М. Солнцев пишет, что у него вызывает возражение имеющее широкое распространение противопоставление языка и речи как системы тексту, так как оно предполагает отрицание системности текста. «Речь есть множество конкретных систем, построенных по определенным правилам из определенных элементов», – говорит исследователь. И далее: «Совокупность речевых произведений не образует общей системы – язык, но образует какую-то концептуальную систему» [Солнцев 1977: 66]. Связь между системой языка и системой речи закономерна и необходима, так как сами правила языка извлечены из речи как динамической системы и «…отражают основные, наиболее поддающиеся формулированию закономерности языка-речи» [Слесарева 1988: 43]. Языковая система (в узком смысле) и ее функционирование образуют диалектическое единство, это лишь две стороны единого целого – языка [Кожина 1972: 54 и др.]. При этом «система языка реализуется в текстах только через коммуникативные деятельности» адресанта и адресата [Сидоров 1987в: 70]. Однако, «находясь в обязательной диалектической связи, язык и речь представляют собой относительно независимые явления, о чем свидетельствует факт различия их системного построения, различия функций…» (курсив наш. – Г. К.) [Хроленко, Бондалетов: 221]. Речевая система, как и языковая система, представляет собой совокупность подсистем: «Речь , по существу, – это система текстов» [Слесарева 1988: 37], «система систем, или системно организованная деятельность» [Сидоров 1987б: 8]. В учебном пособии «О речевой системности научного стиля сравнительно с некоторыми другими»133, опубликованном в 1972 г., 133
В этой работе на страницах 110-113, 121-122 дана история вопроса исследования системности речи. Отмечается, что системный характер речи на примере речи художественной подчеркивал В. В. Виноградов и что стиль связывают именно с речью Б. Гавранек, В. Скаличка, Б. Трнка, К. Гаузенб171
М. Н. Кожина отмечает, что термин «система речи», наряду с терминами «строй речи» и «структура речи», в научной литературе употребляется без определения соответствующего понятия. Исследователь пишет: «Под "структурой речи" обычно понимают лишь статистическое строение текста. Когда же под системностью или структурой функционального стиля имеется в виду понятие не статистическое, а лингвистическое, то большей частью речь идет о связях средств (системе, совокупности) определенной сферы общения, о д и н а к о в о с т и л и с т и ч е с к и о к р а ш е н н ы х, и о тех языковых новообразованиях, которые возникают в данной сфере общения как ее языково-стилистические приметы» [Кожина 1972: 109110]. «Кроме того, само слово "система" употребляется при этом не в строго терминологическом смысле – по существу как синоним к слову "совокупность" (системная взаимосвязь по одной и той же стилистико-языковой маркировке). Как видим, в этом случае исследование не выходит за пределы собственно (узко) языкового аспекта и предметом исследования является по существу я з ы к о в а я системность (хотя и не в строгом смысле термина), но не с о б с т в е н н о р е ч е в а я, не функциональная» [там же: 110]. Перечислим аргументы, которые приводят исследователи в пользу существования речевой системности. 1. Системность функционального стиля, доказательством чего являются вероятностно-статистический характер системы речи и ее ориентированность на экстралингвистические факторы; наличие структуры (определенная взаимосвязь определенных языковых единиц); функционально-стилистическое «обогащение» языковой единицы. А. Вероятностно-статистический характер системы речи и ее ориентированность на экстралингвистические факторы. Речевая системность – это частотность языковых единиц, обусловленных коммуникативной целенаправленностью. Причем «специфичной по стилям является не только частота употребления, но и лаз, Л. Долежел, М. Елинек. М. Н. Кожина считает, что необходимо не только установить общие принципы организации языкового материала и не только «репертуар средств», но и вскрыть причинные связи речевой организации с конкретными экстралингвистическими факторами [Кожина 1972: 122]. 172
с т е п е н ь п р о д у к т и в н о с т и тех или иных языковых единиц, которая также строго мотивирована» [там же: 118]. «Подобная системность принципиально отлична от понятия «система (строй) языка», так как она образуется на коммуникативно-функциональной экстралингвистической основе каждого функц. стиля» [СЭС 2003: 348]. Речевая система, в отличие от системы языка, – пишет Т. В. Матвеева со ссылкой на Б. Н. Головина, – «…ориентирована на ситуацию речевой деятельности, определяется отбором и композицией языковых средств на основе выполнения ими единого коммуникативного задания при единой экстралингвистической основе и является системой статистического типа, с дифференциально исчисляемой частотностью и вероятностью употребления языковых средств». И далее (со ссылкой на М. П. Котюрову): «В качестве единиц данной системы могут выступать не только единицы всех уровней языка, отобранные из его фонда по принципу целевой значимости, но и способы их сочетания и организации в определенной группе текстов (условно: речевая парадигматика и речевая синтагматика). Кроме того, только речевая системность обнаруживает столь явно детерминацию лингвистической стороны текста экстралингвистическими факторами» [Матвеева 1991: 22]. В. Определенные (свои в каждой речевой разновидности) взаимосвязи определенных языковых единиц; векторность стилевых конструкций. «Системность речевого стиля предполагает как к а ч е с тв е н н у ю (отбор определенных средств, их значений, специфичность закономерностей функционирования), так и к о л и ч е с тв е н н у ю сторону явления (статистическая структура высказывания, определенная система частотностей языковых единиц, характеризующая каждый стиль). Причем обе стороны взаимосвязаны и взаимообусловлены, составляют единство» [Кожина 1972: 113]. Особо следует сказать о точке зрения В. Г. Костомарова, который пишет о том, что системность разновидностей языка детерминирована векторами стилевых конструкций. Приведем фрагмент из его книги «Наш язык в действии…»: «Если разновидностям общего языка и суждено было обрести самодостаточную системность (пусть не в виде упорно приписываемой книжной и разговорной разновидностям, но хотя бы в духе щербианских "дополнительных концентрических кругов"), процесс его структурирования отнюдь не станет 173
хаотичным и не исчезнет. Он будет все сильнее детерминироваться не особенностями общеязыковой системы, а – векторами стилевых конструкций, отражающими внеязыковые потребности и воплощенными в материальных стилистических окрасках и дифференциациях» [Костомаров 2005: 260]. Под конструктивно-стилевыми векторами понимаются «…отвлеченные стилевые установки, задающие не определенные наборы средств выражения и приемы их конструирования, но специфические направления их выбора из общего источника, становящегося на глазах все более однородным в функциональном плане», «…отстранение от общего языка, стремление свести его к "своему языку"» [там же: 62]. С. Функционально-стилистическое «обогащение» языковой единицы. «…О д н и и т е ж е единицы языка, н е о б л а д а ю щ и е специфической окраской в с и с т е м е языка (имеются в виду прежде всего грамматические средства – формы лица, числа, времени, типы предложения и т.д.), с т а н о в я т с я о б л а д а т е л я м и определенной ф у н к ц и о н а л ь н о й окраски и ф у н к ц и он а л ь н о г о з н а ч е н и я в контексте каждого отдельного стиля речи» [Кожина 1972: 115]. Так, по наблюдениям исследователя, в деловой речи активизируется особое значение у глаголов настоящего времени – настоящее предписания; в художественной речи активизируется иное значение настоящего, например настоящее историческое; для разговорно-бытовой сферы наиболее характерным является настоящее время момента речи. Таким образом, в каждой речевой разновидности в зависимости от целей общения и экстралингвистических факторов у языковых средств создаются и функционируют особые значения. Речевая системность представляет собой определенное соотношение языковых средств различной функциональностилистической значимости: «1) н а и б о л е е н е п о с р е д с т в е нн о выражающих экстралингвистическую основу стиля, с которой они связаны, и 2) функционально-стилистических средств не н е п ос р е д с т в е н н о, а лишь косвенно связанных с экстралингвистической основой» [там же: 118]. Отсюда, по словам исследователя, «системность речи может быть представлена в трех аспектах: 1) собственно качественном (семантическом); 2) динамическом (закономерности функционирования и особое отношение языковых единиц в строе речи к своим системно-языковым эквивалентам, по существу, омонимам; 3) количественном (статистическом)» [там же]. 174
Исходя из приведенных теоретических положений, речевая системность функционального стиля определяется как «…взаимосвязь и взаимозависимость используемых в данной сфере языковых средств разных уровней – по горизонтали и по вертикали – на основе выполнения этими средствами единого коммуникативного задания, обусловленного назначением экстралингвистической основы соответствующей речевой разновидности, и связанных между собой по определенному функциональному значению, выражающему специфику стиля» [там же: 115-116]. Речевая системность (= системность речевого стиля и его разновидностей) является «качественной стороной стилистико-речевой системности» [там же: 118] и выражается в своеобразной организации языковых единиц в речи (в тексте) [Кожина 1993: 50]. М. Н. Кожина замечает, что ее понимание системности отличается от осмысления системности (в работах Б. А. Ларина, Г. О. Винокура, В. В. Виноградова и др.) как некоей взаимосвязи, взаимообусловленности средств в контексте целого художественного произведения или творчества писателя [Кожина 1972: 347]. Стилистика текста как аспект исследований, изучающих структурно-смысловую организацию текста (группы текстов) с целью углубленного прочтения (интерпретации) его содержания, включается ею в функциональную стилистику. В настоящее время, по мнению М. Н. Кожиной, все чаще и шире представлено исследование роли структурных элементов текста и законов его развертывания, принципов построения в той или иной сфере в аспекте именно стилистико-речевой системности организации речи [Кожина 1993: 26]. Идеи М. Н. Кожиной получили развитие в работах ее учеников. Так, В. А. Салимовский углубляет представление о речевой системности функциональных стилей, последовательно доказывая взаимообусловленность в них лексических (в частности, глаголов движения) и синтаксических единиц, т.е. анализируя вертикальный аспект системности [Салимовский 1990: 42-47]. 2. Системность текста, доказательством чего является относительность языковых категорий. «…Проблема системного состава текста, – пишет Е. В. Сидоров, – не может быть удовлетворительно решена по аналогии с системным составом языка и в силу фрагментарности системы языка в системе текста, и в силу избирательности единиц, привлекаемых из 175
ресурсов языка в отдельный текст, и в силу специфически речевого построения языковых единиц в тексте. Несмотря на генетическое и функциональное родство, система языка – это одно, а система текста – другое» [Сидоров 1987в: 89]. Один из аргументов системности текста и, следовательно, речи (если под ней понимать продукт речевой деятельности, то есть текст) – относительность языковых категорий. В качестве примера относительности языковых категорий в тексте И. П. Слесарева приводит слова-денотативы, которые в языке обычно не образуют антонимических или синонимических парадигм, а входят в парадигмы видовых наименований (согипонимические парадигмы), соотносящиеся с родовыми именами (гиперонимами). Однако в соответствии с замыслом автора в тексте (прежде всего художественном) подобные слова могут синонимизироваться. Так, отмечает исследователь, слова чайник и самовар, являющиеся согипонимами (видовыми наименованиями сосуда для кипячения воды), в повести В. Распутина «Прощание с Матерой» антонимизируются. «Такая антонимизация является продуктом речемыслительной деятельности, в процессе которой в значение слов включается личностный смысл, актуализируя те стороны семантики слов, которые присутствуют в нем в свернутом, скрытом состоянии» [Слесарева 1988: 40]. Различные наблюдения над функционированием языковых единиц в речи представлены и в работах других исследователей. Так, Б. Н. Головин пишет: «Можно указать на распространенное в речи многих авторов антонимическое противопоставление и синонимическое сближение слов и словосочетаний, которые, если их взять в словаре, не обнаруживают ни свойств синонимов, ни признаков антонимии. Явно "положительное" оценочное слово в языке, примененное в речи, может приобрести отрицательную оценку, оттенок иронии, осуждения и т.д.» [Головин 1980: 25-26]. Н. С. Болотнова в процессе анализа стихотворения М. И. Цветаевой «Рас-стояние: версты, мили…» демонстрирует, как слова, далекие вне текста в смысловом отношении (парономазы не расстроили и растеряли, омографы не рассóрили и не рассорúли), становятся соотносительными в системе текста благодаря подчиненности целям и мотивам автора [Болотнова 1999: 29-30]. Появление различных системных отношений в тексте А. А. Припадчев связывает с «принципом нейтрализации языкового различительного означивания сходными речевыми» как «базовым 176
механизмом перевода системы языка в систему речи». Этот принцип проявляется, с одной стороны, в том, что разные слова могут выполнять одну и ту же речевую функцию, что ведет к отношениям функционально-речевой синонимии; с другой стороны – в том, что одно и то же слово может выполнять разные речевые функции (явление полифункциональности слова речи), что ведет к отношениям пересечения, объединения, дополнения [Припадчев 2006: 11-12, 36]. Системность текста обусловлена, по мнению Е. А. Баженовой и М. П. Котюровой, наличием структуры (формы существования содержания текста, которой свойственны определенность, упорядоченность, членимость и целостность), иерархичности (иерархией заложенных в нем неравнозначных коммуникативных программ), средой (социально-культурным контекстом, в котором функционирует речевое произведение) [СЭС 2003: 531]. Е. В. Сидоров считает текст полисистемным образованием, соотносящимся не с одной, а со многими системами: текст – это система морфологическая, система синтаксическая, система логическая, система стилистических приемов и т.п. [Сидоров 1987в: 98]. Причину системности текста (как класса независимо от стиля, жанра, композиции, объема и др. параметров единиц134) видят в системности речевой коммуникации. Текст в таком случае рассматривается как одна из подсистем акта речевой коммуникации. 3. Существование речевых жанров и речевых актов, взаимосвязь между ними (М. С. Горячук, Ю. В. Щурина и др.), системность речевых жанров (А. В. Карабыков). Речевые акты и речевые жанры именуются «строительными единицами коммуникативного процесса». «Наше общение, выливаясь в определенного рода речевые жанры, которые, в свою очередь, 134
Определение текста как некоего класса речевых произведений Е. В. Сидоровым соотносится с понятием типа текста, которое используется для обозначения «…культурно-исторически сложившейся продуктивной модели, образца текстового построения, определяющего функциональные и структурные особенности конкретных текстов (экземпляров текста) с различным тематическим содержанием» [Чернявская 2005: 106]. Ср. иное понимание типа текста: тип текста – «эмпирически существующие формы манифестации текстов» (например, художественные и нехудожественные, устные и письменные) [Валгина 2004: 112]. 177
могут быть разложены на конкретные речевые акты», – считает М. С. Горячук. При этом тот или иной жанр, обладая своим «рабочим инвентарем», может использовать речевые акты, характерные для других жанров. «Использование речевых актов "соседа по системе" не может быть случайным, а всегда является результатом тщательного планирования коммуникативного процесса и выбора определенного набора речевых стратегий и тактик» [Горячук]. Перспективным в изучении общей системности речи считают выявление и описание речевых актов в их парадигматических и синтагматических отношениях. Парадигматический аспект составляет установление классов речевых актов, синтагматический – исследование взаимодействия речевых актов, закономерностей их сочетаемости и образования сложных речевых актов [Карабан 1988]. 4. Системность акта речевой коммуникации. Доказательством системности речевого акта, по мнению Е. В. Сидорова, служат теоретические положения психологов о сопряженности акта партнеров по общению: в процессе общения выделяются циклы, каждый из которых представляет собой сопряженный акт партнеров по общению, в котором действия участников объединены в нечто целое. А раз сопрягаются коммуникативные деятельности, то через них сопрягаются и компоненты этих деятельностей – «…отдельные действия и группы действий, коммуникативные образы референтной ситуации и обстановки общения, коммуникативный и жизненный опыт, оценки, ценности и др. » [Сидоров 1987в: 33]. Поэтому текст выступает по своему коммуникативному существу в роли предметно-знакового средства такого сопряжения, и его следует рассматривать в качестве «знаковой модели сопряжения коммуникативных деятельностей отправителя и адресата сообщения» [там же: 34]. О сопряженности акта коммуникантов пишут и другие исследователи, напр.: «…в тексте находит отражение не только личность автора (непосредственно), но и личность (тип личности) того, с кем он общается посредством текста: опосредованно, через авторский смысловой расчет» [Матвеева 1991: 39]. «…Вне системности речевая деятельность была бы невозможна – в этом случае каждое новое высказывание создавалось бы без учета объективных закономерностей порождения и оформления мысли, речепроизводства и речевосприятия и, следовательно, взаи178
мопонимание между разными людьми было бы невозможно» [Пономаренко: 134]. Таким образом, говоря о речевой системности, исследователи имеют в виду системность функционального стиля и его разновидностей, системность текста и системность речевого акта. Мы солидарны с теми исследователями, которые квалифицируют текст как особого рода систему, имеющую отношение к речи. «При отказе от понятия речевой системности и подведении всех системноречевых признаков к статусу языковых размывается традиционное понятие системы, для которого вероятностные критерии несущественны, а также теряется качественная определенность речи сравнительно с языком» [Матвеева 1991: 22]. РП обладают особой системностью как в пределах какоголибо текста, что обеспечивается их общей направленностью на реализацию коммуникативного замысла135, так и в пределах системности речи, будучи продуцируемыми на основе единого принципа отклонения от нормы или ее нейтрального варианта. Система РП характеризуется теми же свойствами, что и языковая система: наличие подсистем, динамичность, функциональность, социальность, знаковость. Если признавать, что в содержание понятия «язык» входит не только система знаков, но и их функционирование136, то РП являются элементами (единицами) функционального аспекта языка. Поскольку РП – явление моделируемое, воспроизво135
Под системностью РП в том или ином тексте понимается их взаимообусловленность и их взаимоотношение внутри данного текста (системный характер использования). О возможности «переклички» на большем или меньшем «расстоянии» в пределах связного текста множества фигур, «…образующих в "словесной ткани" высказывания какую-то достаточно ощутимую систему внутренних скреп», писал В. И. Корольков [1973: 87]. Анализ такого рода «переклички» различного рода приемов, а не только фигур, на материале текстов различных функциональных разновидностей см. в [Кириченко 1990; Москвин 2006б] и других работах. 136 «Определение языка лишь как системы единиц оказывается узким и недостаточным потому, что ни отдельная языковая единица, ни даже система языка в целом еще не реализуют коммуникативную функцию. У отдельной языковой единицы и языковой системы она имеется лишь потенциально. Конкретная реализация этой важнейшей социальной функции обнаруживается именно при функционировании языка, "взятого" в процессе реальности общения» [Кожина 1993: 9]. 179
димое, то их система может рассматриваться не только как подсистема речи, но и как подсистема языка. Важнейшим признаком любой сложно организованной системы считают присущее ей противоречие [Сидоров 1987б: 36]. Путем разрешения противоречий и происходит развитие системы, в том числе системы языка и системы речи. Явления в языке, которые, хотя и противоречат системе, но не разрушают его системного строения, обозначаются термином антисистема [Будагов 1978: 3]. «Антисистема и направлена против системы, и выступает как производное от системы же понятие. Подобное жизненное противоречие глубоко типично для естественных языков человечества» [там же]. Асистемные явления свойственны языку как системе в целом, поэтому можно предположить, что они характерны и для системы РП. Элементы этой системы, будучи продуцируемыми на основе различных частных принципов, являются, с одной стороны, взаимоисключающими категориями, но, с другой стороны, во многом схожи, так как общий принцип их построения один (отклонение от нормы или ее нейтрального варианта), и взаимозависимы в рамках конкретного текста той или иной функциональной принадлежности, поскольку направлены на выполнение единой коммуникативной стратегии. Более того, в процессе функционирования разные РП могут взаимодействовать друг с другом, в результате чего проявляется многообразие их свойств. Итак, системность – ведущий признак не только языка и речи, но и совокупности РП.
ВЫВОДЫ Подведем итоги первой части нашей работы. Понятие нормы используется лингвистами в широком (философском) значении как «все виды и формы порядка» и в узком значении как конвенциональные нормы языка и речи. Наиболее дискуссионным является объем понятия «речевая норма». В зависимости от аспекта рассмотрения речи – статического или динамического – под «речевой нормой» («нормой речи») имеют в виду норму текстовую или норму лингвопрагматическую (норму речевого поведения), при описании которой исследователи исходят из разного осмысления 180
понятий «принцип», «постулат», «максима», «правило» речевого общения (поведения), в результате чего общепринятой классификации речевой нормы не существует. Полагаем, что использование понятия нормы в его широком (философском) осмыслении позволяет рассматривать норму как систему, состоящую из целого ряда частных норм – социальных (имеющих конвенциональный и потому предписывающий характер) и природных (неконвенциональных, например норм развития животных, роста растений, выпадения осадков и т.д.). Нужно иметь в виду, что и те и другие представляют собой результат обобщающего и стереотипизирующего осмысления человеком объектов, явлений и процессов действительности. Коммуникативные нормы (нормы общения с целью получения и/или передачи информации) являются разновидностью социальной нормы как конвенциональных предписаний к поведению человека в обществе. Коммуникативные нормы могут быть подразделены на два типа: нормы использования вербальных средств (нормы вербального общения, или культурно-речевые нормы) и нормы использования невербальных средств (жестов, мимики, позы и т.д.) в процессе общения. К нормам вербального общения относим собственно языковые нормы (нормы языка в узком смысле как совокупность наиболее устойчивых, стабильных языковых средств и правил их употребления) и речевые нормы (нормы речи в узком понимании). Речевыми являются нормы текстовые (правила построения письменного или устного текста, обеспечивающие его связность, цельность, адекватность авторской интенции, а также среднестатистические языковые характеристики текстов определенной стилевой, жанровой и индивидуально-стилевой принадлежности) и лингвопрагматические (речеповеденческие, или нормы речевой деятельности). Текстовые и лингвопрагматические нормы тесно связаны между собой, о чем свидетельствует наличие корреляции между принципами (основными положениями теории лингвопрагматической нормы, обобщающими практический опыт народа и отражающими закономерности речевого общения, которые должны соблюдаться во всех коммуникативных ситуациях), постулатами (составляющими компонентами принципа) речевого общения, коммуникативными качествами хорошей речи и текстовыми категориями. Это позволяет выделять в рамках текстовых и лингвопрагматических норм (в з а181
в и с и м о с т и о т а с п е к т а изучения речевой нормы) следующие взаимосвязанные между собой типы норм: ситуативная норма (соответствие речи социальной роли, коммуникативному намерению, условию и обстановке, в которой происходит общение), функционально-стилистическая норма (понимаемая вслед за Пермской школой как наиболее целесообразные в той или иной сфере общения реализации принципов отбора и сочетания языковых средств, создающих определенную стилистико-речевую организацию), нормы нерегулярной встречаемости однородных языковых единиц (система статистических показателей, характеризующих «нерегулярность текстовой структуры»), информационно-речевая норма (смысловая полнота и завершенность, отсутствие второстепенной информации), логико-речевая норма (формально-логическая как соблюдение законов формальной логики и предметно-логическая как соответствие содержания речи общей картине мира), этико-речевая норма (система нравственных предписаний к речи говорящего), эстетико-речевая норма (эстетическая выдержанность речи как ее максимальная приближенность идеалу прекрасного). Нормативной в литературном языке может быть как нейтральная, так и экспрессивная форма. Следовательно, в рамках нормы сосуществуют нейтрально-нормативный ее вариант и вариант экспрессивно-нормативный. Отклонение от нормы представляет собой переход в речи к такому способу выражения (устному или письменному), который не соответствует обычному, регламентированному; отклонение от нулевой ступени нормы – это отход от нормативно-нейтрального способа выражения в той или иной конситуации. Исходя из обозначенных выше теоретических положений, риторический прием мы определили как осуществляемое в речи прагматически мотивированное и моделируемое отклонение от нормы или ее нейтрального варианта с целью оказания определенного воздействия на адресата. Принцип отклонения характеризует онтологическую сущность РП. Системными свойствами РП являются: мотивированное намерением адресата и условиями общения (контекстом и/или ситуацией) отклонение от нормы или ее нейтрального варианта (системообразующее свойство), моделируемость (системоприобретенное свойство), функциональная общность. Моделируемость РП связана как с моделируемостью речевой деятельности человека в целом, так и с 182
наличием продуцирующих приемы принципов построения, общепринятая классификация которых отсутствует в современной лингвистике. Модель РП является моделью порождающего типа. С одной стороны, она относится к речи, так как отклонение осуществляется в процессе речевой деятельности, а с другой – к языку, поскольку обладает свойством воспроизводимости и представляет собой результат использования, комбинирования языковых средств. В связи с этим можно говорить о «перекрещивании систем» языка и речи. Абсолютный (обязательный) характер отклонения от нормы и моделируемость (воспроизводимость по модели, включающей схему построения приема в отвлечении от конкретного лексического содержания и совокупность условий, факторов отклонения) РП – основное его отличие от речевой тактики и речевого жанра. Доказательством системности РП является их способность подвергаться нейтрализации («снятию» в сознании адресата принципа отклонения), которая оказывается возможной благодаря варьированию, градуированию нормы. Можно говорить о существовании контекстуальной нейтрализации РП в речи, при которой происходит переосмысление аномалии как приема, и нейтрализации приема в системе языка. В последнем случае речевой прием начинает восприниматься как единица языка – нормативно-экспрессивная (относительная нейтрализация) или нормативно-нейтральная (абсолютная нейтрализация: прием перестает быть приемом). РП образуют сложную гетерогенную систему. Ее элементы находятся в разных отношениях между собой: синтагматических (случаи конвергенции, или взаимодействия, приемов в тексте) и парадигматических (родовидовых). Система РП носит динамический характер, что проявляется в наличии синкретичных образований – приемов, строящихся на двух и более принципах. РП обладают особой речевой системностью в пределах конкретного текста, что обеспечивается их общей направленностью на реализацию коммуникативного замысла.
183
Ч а с т ь II ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ РИТОРИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ «Построение системы как классификации, последовательное извлечение и анализ следующих из такого построения утверждений является второй основной задачей и вторым основным методологическим требованием ОТС (общей теории системы. – Г. К.)» [Урманцев 1978: 39]. Решение этой задачи должно осуществляться на основе описания конкретного множества элементов, на которых интерпретируется совокупность отношений, составляющих структуру той или иной системы, и включать в себя исследование места каждого элемента в установленной схеме отношений. В то же время в рамках одного исследования задача описания каждого элемента в системе кажется трудновыполнимой, поэтому главным в этой части работы нам видится создание лишь общей классификации РП с характеристикой их основных инвариантов. «…Только классификация превращает видимый хаос в систему» [Скребнев 1975: 120]. Нельзя не учитывать, что попытки решения задачи классификации различных приемов неоднократно предпринимались исследователями: насчитывается не один десяток типологий фигур речи и тропов. Предложенные современными лингвистами классификации экспрессивных синтаксических конструкций, по наблюдениям Н. Н. Васильковой, не соотносятся с традиционными типологиями стилистических фигур, которые были представлены в риториках и курсах словесности второй половины ХVIII – начала ХIХ в.; задача установления связи современных классификаций с традиционными типологиями фигур не ставилась [Василькова 1990: 1]. Вместе с тем этот факт не свидетельствует об отсутствии преемственности в классификации фигур речи и других приемов. Иными словами, в многочисленных классификациях «…можно увидеть не только определенную систему, но и традицию» [Аннушкин 2004б: 136].
184
Глава 1 Из истории разработки принципов классификации риторических приемов 1. Традиционные подходы к типологии риторических приемов Формальная сторона фигур речи, являющихся, с нашей точки зрения, разновидностью РП, была разработана в доаристотелевский период и, как отмечают исследователи, гораздо подробнее, чем это делает Аристотель в «Риторике». Об этом свидетельствует тот факт, что Аристотель в своей «Поэтике» при описании фигур как особых украшений двучленного периода ссылается на риторику Теодекта (ученика Исократа и позже Аристотеля; годы жизни: 381-340 до н.э.). Кроме того, он дает традиционные в риторических пособиях того времени описания (порядок и число) фигур: называет их в том же порядке, что и Анаксимен из Лампсака137 (ок. 380-320 гг. до н.э.) [Античные теории… 1996: 340-341]. Классификация фигур138 у Аристотеля не представлена. Однако у него, как отмечают историки, мы имеем нечто, напоминающее более позднее разделение фигур у Цецилия на четыре группы (расширения словесной формы, сокращения ее, перестановки слов и противопоставления). «В числе приемов, сочетающих ясность речи и возвышенный ее характер, упоминаются: удлинение (правда, не фразы, 137
Ср. написание Лампаска в [Лотман 1995: 96]. По мнению С. Меликовой-Толстой, термин «фигура» входит в употребление уже в эллинистическое время и, вероятно, на Родосе, где, повидимому, и развилось учение о фигурах [Античные теории… 1996: 175]. Греки называли фигуры «речевыми жестами» [Грановская 2004: 34]. Жестами образно именовали фигуры и в старинных русских риториках: «Слова "фигура", или "схема", говорящие об одеянии и жестах танцовщиков, кажется, перешли из театра в риторические школы. Подобно тому, как в театрах актеры или танцовщики сцены облачались в разные наряды и подражали житейской жестикуляции, следуя за разнообразием представляемых лиц, так и язык из-за многогранности явлений, о которых идет речь, как бы облачается в подобранную одежду или оживлен жестами» («Компендиум по риторике» Слуцкого. Цит. по [Вомперский 1988: 25]). 185 138
а отдельного слова), усечение (также в отношении к отдельным словам), изменение и перестановки (без применения этого термина)» [там же: 350]. Термина «троп» у Аристотеля нет. Явления, которые позднее обозначат как «тропы», у Аристотеля даются под термином «метафора»: «Метафора – перенесение слова с измененным значением из рода в вид, из вида в род, или из вида в вид, или в форме пропорции» [там же: 184]. По свидетельству Цицерона, Аристотель под метафору подводит метафорические слова (перенос по сходству), метонимические выражения («…в которых вместо точно соответствующего предмету слова подставляется иное с тем же значением, заимствованное от предмета, находящегося с данным в теснейшей связи») и «…фигуру злоупотребления, которую он называет "катахрезой", когда мы неправильно употребляем близкое по значению слово…» [там же: 231]. В отличие от Аристотеля, Квинтилиан, как мы увидим ниже, разграничивает метафору и катахрезу. Самым ранним памятником разработки риторики в Риме считают «Риторику к Гереннию» (анонимное сочинение). Он был написан в 80-х годах I в. до н.э. [там же: 342]. В этой риторике тропы трактуются после фигур139. «Выделение тропов как особого языкового явления, отличного от так называемых фигур, происходит сравнительно поздно; ранняя перипатетическая теория его не знает», – пишут исследователи. И далее: «Для нас термин троп впервые встречается у ученика Кратета Тавриска, т. е. принадлежит стоической риторике» [там же: 346]. Поэтому Цицерон для украшений речи употребляет термин lumina. Дионисий Галикарнасский тропы включает в разряд фигур. Он пишет: «…Выбор элементов речи (я имею в виду имена, глаголы и союзы) заключается в выборе выражений, имеющих прямое значение и имеющих значение переносное, а сочетание слов складывается из комм, колонов и периодов. Как то, так и другое (т. е. и простые неделимые слова, и их сочетания) дают так называемые фигуры» [там же: 200]. В наше время часть лингвистов также включает тропы в состав фигур (напр.: [Романова, Филиппов 2006: 40; ПР 1998: 267-268]), рассматривая их в группе «фигур переосмысления» [Гаспаров 1997: 139
Подробно классификация фигур, представленная в «Риторике к Гереннию», описана в [Кузнецова, Стрельникова 1976: 84-90]. 186
573]. Большинство авторов современных учебников, учебных пособий по риторике, стилистике, культуре речи и другим коммуникативным дисциплинам сохраняют идущее от античности разграничение приемов на тропы и фигуры, однако следующей ступени классификации этих приемов (тропов и/или фигур) избегают (см.: [Анисимова, Гимпельсон 2002: 204-209; Баева 2002: 78-82; Введенская, Павлова 1995: 134-156; Введенская, Павлова 2000: 234-246; Введенская, Павлова 2002: 128-138; Голуб 1999: 130-146, 426-432; Горшков 1996: 120-137; Кохтев 1996: 138, 166-168; КРР 1998: 264-278; Мартьянова 2002: 120; Михайличенко 1994: 50-51; Ножин 1989: 199-203; Плещенко и др. 2001: 213-226; Розенталь 1998: 355-364; Смелкова и др. 2006: 344; Шейнов 2000: 495-498] и др.). Родовыми для тропов и фигур у них служат, как правило, понятия: «средства художественной изобразительности», «изобразительно-выразительные средства языка», «художественные средства языка», «приемы выразительности», «стилистические приемы»140. Если явление не укладывается в традиционные понятия тропа (лексических средств словесной образности) или фигуры (синтаксических средств образности, приемов стилистического синтаксиса, особых форм синтаксических конструкций), то его описывают отдельно. Так, прием авторского обновления фразеологизма называется «художественным средством» [Основы… 1980: 148], «приемом достижения комического» [Ножин 1989: 209]; анаграмма, пародия, стилизация, афоризмы, цитаты, пословицы рассматриваются среди «прочих выразительных средств» [Львов 2003: 207-109]. Актуальной во все времена является проблема классификации тропов. У Квинтилиана читаем: «Как среди грамматиков, так и среди философов ведется неразрешимый спор о родах, видах, числе тропов и их систематизации» [Античные теории… 1996: 228]. Сам Квинтилиан среди тропов рассматривает: 140
Очевидно, следует признать, что и в старинных русских риториках устоявшегося родового термина для обозначения тропов и фигур не было. Как гипероним использовались понятия «вымысел» («Риторика» Макария), «украшенные средства». В. П. Вомперский замечает, что Ф. Прокопович расширяет понятие украшенных средств: помимо словесных и смысловых фигур, украшенные средства включают в себя фонетические и интонационные приемы в речи оратора, усиливающие воздействие на слушателя [Вомперский 1970: 86]. 187
– метафору («укороченное сравнение»); – синекдоху («…на основании чего-либо одного мы уразумеваем многое: по части – целое, по виду – род, из предыдущего – последующее. И наоборот» [там же: 235]); – метонимию («сущность ее заключается в замене того, о чем говорится, причиной этого последнего» [там же]); – антономасию («…вместо имени ставит нечто другое»; употребляется поэтами «…и в виде эпитета, который после устранения определяемого слова получает значение имени, и в той своей форме, когда имя заменяется главными качествами своего носителя» [там же: 236]); – катахресу (в отличие от метафоры, она «…применима там, где названия вовсе не было» [там же: 237]); – металепсис («…переход от одного тропа к другому. Сущность металепсиса состоит в том, что между переносимыми понятиями должна существовать некая средняя ступень, сама по себе ничего не значащая, но подготавливающая переход…» [там же]). «Прочие тропы, – пишет Квинтилиан, – касаются уже не значения слов и употребляются не для обогащения речи, а для ее украшения». Тем самым он подчеркивает, что эпитет, например, становится тропом только в том случае, если употребляется в переносном значении: «Главным украшением эпитета служит переносное значение: "необузданная страсть", "безумные замыслы". Путем прибавления этих новых качеств эпитет становится тропом, как, например, у Вергилия: "безобразная бедность" и "печальная старость"» [там же]. Современные же исследователи подобных замечаний, как правило, не делают. В результате становится непонятным, на каком основании эпитет как «образное слово» причисляется к тропам (см., напр.: [Баева 2002: 78; Михайличенко 1994: 50; Основы… 1980: 148; Шейнов 2000: 496]). Среди «прочих тропов» Квинтилиан называет (с оговорками) перифразу («словесный обход») и гипербат («изменение естественного порядка слов»), который «…может быть скорее назван словесной фигурой, как это и полагали многие» [Античные теории… 1996: 239]. Перечисленные тропы рассматривались также в «Риторике к Гереннию», некоторые из них обозначены у Цицерона. Исчерпывающей Т. Г. Хазагеров и Л. С. Ширина считают классификацию тропов у Трифона, который перечислил 37 вариантов и 188
14 основных разновидностей тропа. Византийский грамматик Георгий Херовоск (Хиробоск, Хировоск) написал сочинение «О тропах», в котором описал 27 разновидностей этого приема141. Большой список фигур (до нескольких сотен) встречаем у Юлия Цезаря Скалигера [Хазагеров, Ширина 1999: 20-21]. Сейчас исследователи также выделяют различное количество тропов: от четырех или шести (метафора, метонимия, синекдоха, аллегория, антономасия, перифразис (в первоисточнике перефразис, а не перифразис)) [Рождественский 1997: 253-264] до свыше двадцати разновидностей: эвфемизм, какофемизм, антономазия (варианты перифразы); синекдоха, отношения «человек – одежда», «человек – орудие, предмет», аллегория, отношения «содержимое – содержащееся», «изделие – материал», «конкретное – абстрактное», «произведение – автор», «речь – человек», мимезис и др. (варианты метонимии); гипербола, мейозис, олицетворение, катахреза, инопия (примыкают к метафоре); астеизм (тип олицетворения) [Хазагеров, Ширина 1999: 120-121]. В наше время, помимо метафоры, метонимии, антономасии, синекдохи, гиперболы, литоты, сравнения, перифразы, в списке тропов дают олицетворение. Это соответствует античной традиции, поскольку явление, именуемое олицетворением, по сути, включалось в античности в один из типов метафоры, а значит, относилось к тропам. Тот же Квинтилиан, в частности, писал: «Особую возвышенность придают речи метафоры, употребленные в смелом и почти рискованном значении, когда мы приписываем способность действовать и влагаем душу в предметы, лишенные способности чувствовать» (курсив наш. – Г. К.) [Античные теории… 1996: 232]. Разделение фигур на фигуры мысли (figurae sententiarum schemata) и фигуры слова (figurae verbotum) ввели ученики Аристотеля, «…в особенности, – пишет Ю. М. Лотман, – Деметрий Фалерский» [Лотман 1995: 96]. Хотя уже на уровне этой главной классификации фигур у многих риторов, как отмечает Н. А. Безменова, возникнут параллельные соображения о том, что все фигуры касаются мысли и 141
Очень тщательно эволюция взглядов на сущность тропов, а также фигур перестановки, убавления и прибавления в трактатах Трифона, анонимного автора, Псевдо-Горгия, Кокондриоса, Хиробоска и их описание в трактате «О образѣхъ» (первом сочинении на Руси, посвященном тропам и представляющим собой переработанный Иоанном перевод сочинения Г. Хиробоска), проанализированы в [Щаренская 2004]. 189
слова: «…где затронуто слово, затронута мысль» (Baron A. Цит. по [Безменова 1991: 37]). Прогрессивными и перспективными являются замечания Квинтилиана относительно описания фигур в некоторых из книг. В частности, он пишет: «Прежде всего Марк Туллий поместил в третьей книге своего сочинения "Об ораторе" много таких фигур, которые он сам, по-видимому, забраковал мимоходом в своем "Ораторе", написанном им позже. Часть их может быть скорее отнесена к смысловым фигурам (выделено нами. – Г. К.), а не к словесным, как, например, умаление, неожиданность, уподобление, риторический вопрос, отступление, уступка, противоположение (это тó, думается мне, чтó называется энантиотой), доказательство от противного. Некоторые совсем не могут считаться фигурами, как-то: порядок перечисления, перифраза, а иногда именем фигуры обозначаются кратко выраженная мысль или определение. Ибо и это Корнифиций и Рутилий считают словесной фигурой» [Античные теории… 1996: 280]. Именно размытость критериев отбора фигур мысли приведет к тому, что в Средние века будут насчитывать до двухсот разновидностей фигур этого типа. К сожалению, и некоторые современные отечественные исследователи не всегда четко отграничивают фигуры от смежных языковых / речевых явлений. Не случайно фигуры и другие явления они подают общим списком под разными родовыми наименованиями. Так, риторическими фигурами (приемами, повышающими убедительность речи и силу ее воздействия) называют риторический вопрос, анафору, градацию, антитезу, перечислительный ряд, аналогию [Стернин 2002: 88], повтор, гиперболу, инверсию [Стернин 1996: 8485]. Как «приемы повышения выразительности речи, усиления ее эмоционального воздействия» и как «стилистические средства» определяют аналогию, сравнение, метафору, аллегорию, гиперболу, перифраз, оксюморон, персонификацию, инверсию, повтор, ироническое обращение, экстраполяцию (нарушение стилистической сферы употребления слов или выражений) [Порубов 2001: 164-165]; как «словесные, стилистические фигуры» – градацию, анафору и антитезу [там же: 172]; как выразительные средства языка – вопросительные предложения, риторический вопрос, прямую и косвенную речь, цитаты [там же: 175-176]. М. Р. Львов к фигурам мысли относит типы речи: повествование, описание, рассуждение и смешанный вариант, а также силлогизм и ассоциации [Львов 2003: 102-103]. В ре190
зультате такой подачи материала в одном перечне, как видим, иногда оказываются феномены различной речевой природы (фигуры, тропы, принципы построения приемов, функционально-смысловые типы речи и другие явления). Такая же ситуация наблюдается в известных нам переводных риториках. В частности, в книге Х. Леммермана «Учебник риторики. Тренировка речи с упражнениями» к «риторическим средствам выражения» (риторическим фигурам) отнесены не только гипербола, синекдоха, метафора, но и разъяснение, пример, рассказ, предупреждение или постановка возражения, промедление (запаздывание), предуведомление и т.п. [Леммерман 1993: 110-133]. Поль Л. Сопер в работе «Основы искусства речи» к «особым приемам, придающим речи более оживленный характер» причисляет, наряду с риторическими вопросами, умолчанием, гиперболой, инверсией, антитезой, метафорой, уподобление (развернутое сравнение), иронию и лозунг [Сопер 1998: 321-325]. Все это не удивительно, поскольку большинство исследователей при описании фигур мысли ориентируются на античную риторику, которая «…не сумела достаточно ясно определить понятие фигур мысли, очертить их границы, отделить от приемов описания, не характеризующихся специальной структурно-семантической организацией» [Хазагеров, Ширина 1999: 20]. В отличие от фигур мысли, фигуры слова получили детальную разработку. Словесные фигуры являются, как пишет Деметрий, «некиим видом построения речи» [Античные теории… 1996: 276]. Античная традиция изобретение словесных фигур, особенно трех: антитезы, симметрии слогов и созвучия их – приписывает Горгию. Поэтому словесные фигуры античная риторика называла горгиевыми [Грановская 2004: 174], или горгианскими [Корнилова 1998: 27]. С. Меликова-Толстая пишет: «Если тут и нельзя говорить об изобретении в собственном смысле, так как эти приемы существовали в греческой литературе задолго до Горгия, с тех самых пор как вообще начала существовать греческая литература, однако речи Горгия безусловно показывают, что он обратил на эти фигуры внимание, учел их значение как средства повышения звуковой стороны языка и сознательно применил их в небывалых размерах» [Античные теории… 1996: 156-157]. Он впервые переносит в свою речь те словесные приемы, которые использовались в заговорах, молитвах, поэзии. Горгий пишет о двух способах «волшебного чародейства»: «чарова191
нии духа» и «обмане мысли», разрабатывает методику воздействия на слушателя [Корнилова 1998: 26]. По Квинтилиану, «словесные фигуры бывают двух родов: один из них называется формой речи; изысканность другого обусловливается главным образом особым размещением слов. Хотя оба они пригодны для ораторской речи, однако первый можно скорее назвать грамматическим, второй – риторическим» (курсив наш. – Г. К.) [Античные теории… 1996: 278]. В русской риторике этим мыслям Квинтилиана близка классификация фигур Н. Ф. Кошанского и А. И. Галича. Н. Ф. Кошанский отмечает, что фигуры слов иногда называют грамматическими, т.к. слова составляют предмет грамматики, а фигуры мыслей – реторическими, ибо мысли – это предмет риторики [Общая реторика 1844: 92]. А. И. Галич выделяет фигуры грамматические (анаграмма, бессоюзие, многосоюзие, усугубление, единознаменование, возвращение, наклонение, окружение, перемещение, изобилование, умолчание, соответствие), ораторские (сообщение, сомнение, поправление, предупреждение, вопрошение, уступление, напряжение, умедление, восхождение, отступление, остроумие, противоположение) и поэтические (эпитеты, метонимия, синекдоха, метафора, аллегория, сравнение, ирония, гипербола, описание, изображение, олицетворение, обращение, восклицание, заклинание). «Если Грамматикъ въ своихъ фигурахъ играетъ словами, а Ораторъ мыслями, то Поэтъ играетъ картинами» [Теория красноречия… 1830: 40]. Как видим, подразделение фигур на грамматические, риторические и поэтические осуществлялось не на одном основании. Поэтому более перспективной оказалась идея классификации словесных фигур, поддержанная в античности Квинтилианом, а именно выделение фигур, образуемых посредством а) изменения, б) добавления, в) сокращения и г) перестановки, т.е. по организующему их операциональному принципу. Описанию возможностей этих фигур, как свидетельствует Квинтилиан, посвятили специальные книги Цецилий, Дионисий, Рутилий, Корнифиций, Визеллий и многие другие [Античные теории… 1996: 279-280]. В целом в античности выделяли фигуры, образуемые путем 1) добавления, или расширения словесной формы, 2) сокращения, 3) противоположения, 4) перестановки слов, а также 5) созвучия. Тем самым намечались первые попытки построить классификацию фигур на основе механизма их построения, но вопрос об иерархии принци192
пов не ставился. В результате в группе фигур созвучия оказываются фигуры, основанные и на повторе. К фигурам, образованным путем добавления (adiectio), относили142: – удвоение (повторение одного или нескольких слов – в «Риторике к Гереннию»), или conduplicatio; – эпаналепсис (по Деметрию, повторение в длинном словесном обороте одного и того же слова); – единоначатие, или анафору (повторение одних и тех же начальных слов – «Риторика к Гереннию», Квинтилиан), или repetitio; – антистрофу (повторение слов в конце колонов – Гермоген), или возвращение («Риторика к Гереннию»), или conversio; – охват (одновременное повторение начального и конечного слов («Риторика к Гереннию», Квинтилиан), или complexio; – эпанод, или regressio («…Слова, поставленные сперва рядом, потом повторяются отдельно. При этом слова могут повторяться, не только сохраняя свое значение, но и изменяя его. Иногда при повторении слова меняется падеж или род его» – Квинтилиан [Античные теории… 1996: 282]; – разнообразие падежей, или полиптотон, или Casuum commutation (Квинтилиан); – истолкование (замена употребленного слова другим, имеющим то же значение – «Риторика к Гереннию»), или interpretatio; – метаболу (видоизмененные повторения – Цецилий); – сплетение, или плоку (смешение фигур, изобилие повторений – Квинтилиан), или copulatio; – стык, или эпанастрофу (повтор конца фразы / колона в начале другого отрезка речи – Квинтилиан, Гермоген); – кольцо, или киклос, или redditio, или inclusio («с начальными словами могут перекликаться и конечные» – Квинтилиан [там же: 283]);
142
Далее в списке фигур дублирующие наименования приводятся в соответствии с изданием «Античные теории языка и стиля» [Античные теории… 1996: 284], а не в соответствии с современными источниками, где многие термины понимаются иначе. 193
– скопление сходных по смыслу слов и выражений и нагромождение разнообразных понятий (Квинтилиан), или плеоназм (Цецилий), или congerios143; – многосоюзие, или полисиндетон (повтор союзов – Квинтилиан); – градацию, называемую климаксом («Она также является фигурой пространности состава слов, так как она повторяет сказанное и перед тем, как перейти к последующему, останавливается снова на предшествующем» – Квинтилиан [там же: 285]), или ступенчатость («Риторика к Гереннию»), или «повторную анастрофу, напр.: "Не говорил я этого и не писал, не писал и не был в посольстве, не был в посольстве и не уговаривал"» – Гермоген [там же]. К фигурам, образуемым путем сокращения (detractio), причисляли: – бессоюзие (Квинтилиан); – не терминированный в то время тип синекдохи («…когда какое-нибудь опущенное слово с достаточной ясностью подразумевается на основании прочих слов» – Квинтилиан [там же: 286]); – синойкиозу («…объединяются два противоположных понятия: "скупой настолько же не владеет тем, чтó имеет, как и тем, чего не имеет"» – Квинтилиан [там же]); – усечение, которое «…бывает тогда, когда сказана часть, остальное же, о чем начали говорить, оставляется незаконченным» («Риторика к Гереннию» [там же]), или praecisio. К фигурам, образуемым путем созвучия (annominatio), относили: – парономасию, или анноминацию, которая «…создается разными способами; например, слова могут повторять соседние слова, меняя падеж или слово повторяется с большей подчеркнутостью» (Квинтилиан [там же: 287]); – парисосу – фигуру, основанную на сходстве слов («к данному слову подыскивается другое, не слишком от него разнящееся, или, по крайней мере, равносложное с ним и созвучное в последнем слоге» (Квинтилиан [там же]); – антанакласу (употребление одного и того же слова в разных значениях («Риторика к Гереннию»), а также повтор слов, отличаю143
После скопления в книге «Античные теории…» дается почему-то бессоюзие, а в приведенных переводных высказываниях античных авторов не содержится указаний на его отнесение к фигурам добавления. Возможно, что бессоюзие оказалось в этом месте книги случайно. 194
щихся друг от друга лишь долготой и краткостью (Квинтилиан), или традукцию (Корнифиций)); – исоколон (фигура, характеризующаяся равенством колонов – «…когда колоны приблизительно сходны по составу слов, оканчиваются одинаковыми падежами и имеют созвучные окончания» [там же: 288]) и триколон (трехколонная конструкция, в которой созвучия не обязательно приходятся на заключительные слова) – Квинтилиан; – сходство падежных окончаний («Риторика к Гереннию»), или гомеотелевтон (Квинтилиан); – гомеооптотон (одинаковые падежи в колонах – Квинтилиан). Фигурами, образованными путем противоположения, в античных риториках являются антитеза (Феофраст, Деметрий), или противоположение (Квинтилиан)144, или contentio, contrapositum, и антиметабола (определяется по-разному, но иллюстрируется одним и тем же высказыванием: «надо есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть» – «Риторика к Гереннию», Квинтилиан), или commutatiо. Приведенный список иллюстрирует многообразие терминологических наименований для той или иной фигуры в античности. Квинтилиан пишет: «Теоретики дали всем этим фигурам названия, но различные, какие кто придумал» [там же: 279]. В дальнейшем количество терминов значительно увеличится, и в настоящее время как никогда актуальна проблема их системности, которая не может быть решена без системного описания соответствующих понятий и стоящих за ними фактов речевой действительности. Противопоставление в античности «фигур добавления» «фигурам сокращения», по мнению В. П. Москвина, имеет два серьезных недостатка. Это, «во-первых, ограниченность сферы действия: за его пределами оказываются все фигуры речи (напр., фигуры интертекста, фигуры нарочито неясной речи и др.), для которых параметр протяженности оказывается иррелевантным. Во-вторых, классификация по данному параметру группирует приемы, не имеющие между собой ничего общего: так, каламбурную зевгму (фигуру нарочитого алогизма) по признаку "сокращения" пришлось бы поместить рядом с эллипсисом (фигурой краткой речи)» [Москвин 2006а: 10].
144
Исследователи обращают внимание, что у Аристотеля антитеза трактуется не в числе фигур, а как форма периода [Античные теории… 1996: 350]. 195
На наш взгляд, античная классификация фигур на фигуры добавления, фигуры сокращения, фигуры созвучия и фигуры противоположения демонстрирует один из возможных аспектов решения рассматриваемой проблемы. Ее достоинством является выявление и описание того, что в современной элокуции называют принципами построения фигур, и на этот факт обратила внимание И. В. Пекарская [Пекарская 2000а: 164]. Системное осмысление фигур и других РП продуктивно именно на основе изучения принципов их продуцирования, о чем свидетельствуют пока еще немногочисленные работы современных исследователей. Названные выше группы фигур встречаются в целом ряде современных классификаций. Так, фигуры убавления и фигуры добавления представлены в [Корольков 1973]; фигуры убавления, фигуры прибавления и фигуры размещения – в [Хазагеров, Лобанов 2004: 249]; фигуры убавления, фигуры добавления, фигуры расположения, фигуры противоположности – в [Скребнев 1975: 156]145. При этом один и тот же по сути принцип обозначается по-разному (ср.: фигуры размещения и фигуры расположения). Разветвленной и продуктивной оказалась античная классификация фигур повторения, образуемых с помощью лексического повтора и систематизированных по «принципу локализации повторяемых лексем в содержащих их речевых звеньях». Выделялись: анафора, эпифора, симплока, эпанастрофа, градация, эпанод. Эта классификация «…продолжала жить и использоваться и тогда, когда многовековая традиция преподавания и изучения риторики, казалось бы, прервалась и угасла. Так, предложенная О. М. Бриком классификация звуковых повторов была, в сущности, необъявленным переносом лексического материала на фонетический некоторого фрагмента приведенной античной классификации фигур повторения. Заимствовавший эту классификацию уже из работы Брика В. М. Жирмунский вновь применил ее к лексическим повторам и построил с ее помощью типологию структур лирических текстов» [Гиндин 1995: 129]. Существуют классификации фигур / приемов и на иных основаниях. Так, Ю. В. Рождественский выделяет приемы: фонетикограмматические (правильный порядок слов, инверсия, анаколуф), лексико-фразеологические (силлепсис синтаксический, лексический 145
Анализ классификаций В. И. Королькова и Ю. М. Скребнева представлен в [Пекарская 2000а: 165]. 196
и фразеологический), фонетико-лексические (подбор слов, звучание которых сходно, но трудно для произношения) и синтаксические (риторический вопрос, риторическое восклицание, ирония) [Рождественский 1997: 257-258]. С. А. Фридрих приемы и средства экспрессивной речи подразделяет на фонетические (аллитерация, ассонанс, «удлинение согласных» и др.), словообразовательные (повторы типа горе горемычное), лексические (синонимическая замена) и синтаксические (зевгма, порядок слов, риторический вопрос, анафора, эпифора и др.) [Фридрих 1990: 10-11]. Уровневый критерий классификации фигур, наряду с некоторыми другими критериями, с точки зрения В. П. Москвина, – это систематизация фигур по «…формальному, внешнему, а потому не отражающему онтологию системы, несущественному, случайному признаку…» [Москвин 2006а: 9]. С суждением о том, что при создании общей классификации этот критерий оказывается иррелевантным [там же: 11], можно согласиться. Однако возможно, что на одной из ступеней классификации этот критерий окажется приемлемым. Попытки привязать фигуры речи к одному уровню (синтаксическому) В. П. Москвин называет «архаической традицией», которая держится в литературоведении [там же: 9]. Хотя «архаическая традиция» не значит – плохая. Помимо тропов и фигур в античности был описан еще один тип приемов – «претерпевания» (приемы, связанные со звуковыми изменениями в слове). В античности выделяли следующие виды «претерпеваний» слова: prosthesis – aphaerеsis (прибавление или урезывание слога или буквы в начале или в конце слова); anadiplosis – arsis (удвоение или уничтожение удвоения первого слога); ectasis – systole (удлинение кратких или сокращение долгих гласных); epectasis – syncope (вставка или устранение слога в середине слова); diaeresis – synaeresis (разложение долгого на две гласных или срастание двух гласных (или гласной и дифтонга) в долгую гласную или дифтонг); parenthesis – ellipsis (вставка или устранение гласной в середине слова); diplasiasmus – paralipsis (удвоение или уничтожение удвоения согласной в середине слова); paremptasis – ecthlipsis (thlipsis) (вставка или устранение согласной в середине слова); proschematismus – apocope (прибавление или урезывание слога в конце слова); crasis (слияние гласной или дифтонга в конце одного слова с гласной или 197
дифтонгом в начале другого слова); metathesis (перестановка букв); trope (переход буквы в другую) [Античные теории… 1996: 123]. По мнению Ю. В. Рождественского, термин «претерпевание» необходимо сохранить в риторике, понимая под ним «…такие фонетические изменения слов, которые не связаны со словоизменительной морфологией и, хотя и используют словообразовательные морфемы и фонетические инкременты, но их контекстное применение связано не с переменой значения, а с ритмом речи». (Заметим, в их основе лежат те же принципы построения, что и в фигурах.) Исследователь называет восемь «претерпеваний»: протеза (прибавление к началу слова других звуков: рожденный – нарожденный); метатеза (перестановка звуков в середине слова: вневременный – невовременный); эпентеза (прибавление звуков в конце слова: лиса – лисица); энклитика (прибавление значащего элемента, который лишается значения: злостность – злосткостность); сокращение окончания (как у И. А. Крылова: «тихохонько медведя толк ногой»); буквенная аббревиатура (Московский государственный университет – МГУ); сложносокращенные слова (Высшее техническое училище имени Баумана – ВТУ Баумана); диереза (пауза, используемая как эллипсис – пропуск слова, которое подразумевается по контексту: «Ввели и – чарку стук ему. И не дышать – до дна!») [Рождественский 1997: 246-247]. Звуковые трансформации в структуре слова рассматриваются в рамках особой группы фигур – микрофигур – в [Клюев 1999: 225-237]. Таким образом, «риторы много занимались тем, чтобы упорядочить классификацию украшений речи, но так и не добились единомыслия» [Кузнецова, Стрельникова 1976: 85]. М. Л. Гаспаров, изучив античную риторику, пришел к выводу: «Вся сложная номенклатура тропов и фигур, разработанная многими поколениями античных риторов, отличается четырьмя особенностями. Во-первых, она очень тонко и наблюдательно отмечает стилистические "блестки" (lumina, любимое цицероновское слово), выделяющиеся на нейтральном речевом фоне. Во-вторых, она лишь неуверенно и неумело их систематизирует, границы между видами и разновидностями фигур сплошь и рядом оказываются расплывчатыми. В-третьих, она совершенно их не объясняет, так как исходное понятие, "естественная речь", для которой эти фигуры служат "украшением", остается непроанализированной и ощущается лишь интуитивно. В-четвертых, она неправильно их применяет, предполагая, 198
что всякое скопление фигур делает речь возвышенной и художественной, между тем как фигуры такого рода изобилуют и в разговорной речи, а неупорядоченное их употребление может произвести лишь комический эффект. Все это стало очевидным к концу ХVIII века…» [Гаспаров 1991: 47]. Характеристика тропов и фигур в средневековых работах (прежде всего у Гервасия Мельклейского) дана в публикациях М. Л. Гаспарова; классификация РП в старинных русских риториках и курсах словесности146 представлена в исследованиях Л. К. Граудиной, В. П. Вомперского, В. И. Аннушкина, Н. Н. Васильковой, А. С. Елеонской, Е. В. Маркасовой, Р. Лахманн и некоторых других исследователей. Обширная классификация фигур речи, как заметил В. И. Аннушкин, содержится в первой русской «Риторике» 1620 года. В этом труде тропы (тропосы, тропусы) отграничиваются от фигур и понимаются в соответствии с традицией: «То есть егда глас или слово от истиннаго свойственнаго естества и описания переменяется или обращает к подобной вещи или к ближней, яко же о том глаголет Димонстенес философ, что Филипп царь макидонский величеством и высотою вещи и дел соделанных и совершенных пияным был. Зде обявляет, что не имеет истиннаго объявления пиянства» (Цит. по [Аннушкин 1998: 50]). Надо сказать, что трактовка понятия «троп» с развитием русской риторики практически не меняется. У Стефана Яворского в «Риторической руке» (1705 г.) читаем: «Тропос есть глагола или слова от свойственнаго знаменования в чуждее с силою премена» [там же: 98]. В 1807 г. А. С. Никольский троп характеризует как «…употребление слов в переносном или не собственном значении, по причине какого-нибудь отношения или сходства онаго с собственным…» (Цит. по [Русская риторика 1996: 110]). Принципиальное разграничение тропов и фигур было нарушено в конце ХVIII – первой трети ХIХ в. [Василькова 1990: 16]
146
Историческая библиография печатных руководств по риторике и словесности с 1743 по 1860 гг. представлена в [Аннушкин 1998]. Избранные отечественные публикации по проблемам риторики за 1790-1927 гг. даны в одном из номеров специализированного проблемного журнала «Риторика» [Сычев 1995]. 199
Как употребление слов в переносном значении трактуется троп и в большинстве современных учебников и учебных пособий по стилистике, культуре речи и риторике. В «Риторике» 1620 г. тропы подразделяются на словесные и речевые: «Сугубо есть: словесной (словесныя) и речения (сказателныя)». К словесным тропам относятся: «метафора (пренесение слова или краткое подобие), металепсис (преложение от силы), синекдохе (промены словес), метонимия (проименование или прозвание), антономасия (пременение от различия имен), ономатопейя (новоимение), катахресис (злое требование), перифразис (изяснение или изявление)» (Цит. по [Аннушкин 1998: 50]. В работе указываются латинские варианты наименований некоторых тропов: метафора – трантланцо, металепсис – трантумпцио, метонимия – трантноминацио, антономасия – пермутацио, катакресис – абузио [там же: 51-53]. Очевидно, деление тропов на указанные два типа восходит к античной традиции. М. В. Ломоносов пишет, что пренесения у греков называются тропами и подразделяются на «тропы речений» (состоят «…в пренесении одного речения от собственного знаменования к другому, напр.: каменный человек вместо скупой; щедрота похвальна вместо щедрый похвален») и «тропы предложений» (состоят «…в пренесении предложения от собственного знаменования к другому, напр.: По саже гладь, хоть бей, Ты будешь черн от ней. Вместо: Со злым человеком ни по доброму, ни по худому делу не связывайся, для того что всегда для него впадешь в бесславие» [Ломоносов 1952: 237-238]. Разделения тропов на «тропы слов» и «тропы предложений», восходящего к идеям М. В. Ломоносова, придерживается М. И. Панов. К «тропам слов» он относит метафору, метонимию, синекдоху, антономазию, ономатопейю, металепсис и катахрезу; к «тропам предложений» – аллегорию, эмфазу, перифразу, эпитет, иронию, гиперболу, литоту и эвфемизм [ЭК 2005: 367]. На ином основании (по типу связи между собственным и несобственным значением слова) тропы обычно подразделяются на четыре типа: основанные на подобии (метафора), качестве (метонимия), количестве (синекдоха), противоположении (ирония) [Общая реторика 1844: 87]. Сейчас встречается разграничение тропов на 200
тропы сходства, тропы смежности, тропы контраста и тропы тождества [Хазагеров, Ширина 1999; Хазагеров, Лобанов 2004]. Тропы сходства и аналогии называют компаративными, а тропы контраста – контрастивными [Граудина, Кочеткова 2001: 392, 396]. Количество тропов в русских риториках варьируется. Так, если в «Риторике» 1620 г. их восемь, то у И. С. Рижского – тринадцать (метафора, аллегория, катахрезис, синекдоха, метонимия, металепсис, эмфазис, гипаллаге, гипербола, ирония + антифразис как вид иронии, сарказм и хариентизм), А. С. Никольского – восемь (метафора, синекдоха, метонимия, ирония, ипербола + сарказм, хариентизм и астеизм как виды иронии). Не является общепризнанным определение и состав тропов в современной риторике. Иногда троп понимается более широко: как особое употребление слов, фраз и выражений не только в переносном, но и в образном или иносказательном смысле (см., напр., [Граудина, Кочеткова 2001: 391]). Многочисленные попытки уточнить значение тропов предпринимались в работах Р. Якобсона, У. Эко, Ц. Тодорова и многих других. Основной задачей исследователи считали поиск т.н. первотропа – исходного тропа. В ее решении мнения расходятся: в качестве первотропа одни определяют метонимию (У. Эко), другие – синекдоху (представители «льежской группы»), однако большинство исследователей первотропом считают метафору. В целом можно сказать, что «теория тропов за века своего существования накопила обширную литературу по определению основных их видов: метафоры, метонимии и синекдохи. Литература эта продолжает расти» [Лотман 1995: 94]. Что касается классификации фигур, то в риториках доломоносовского периода, существовавших в России в ХVII –ХVIII вв., они были «…далеки от единообразия» [Василькова 1990: 9]. Однако «именно в доломоносовских риториках впервые в России были сформулированы основные принципы классификации фигур, легшие в основу более поздних печатных источников» [Василенко 1998: 129]. Первым типологию фигур, которая бы находилась в прямой зависимости от их категориальной сущности и грамматикостилистических свойств, в истории русской стилистики предложил, по наблюдениям Н. Н. Васильковой, М. В. Ломоносов. Его идеи были восприняты как бесспорные и в дальнейшем развивались и укреплялись [Василькова 1990: 9]. Не останавливаясь подробно на изло201
жении классификаций фигур в период ХVIII – начала ХIХ в., так как это уже было предпринято в исследованиях (Н. Н. Васильковой, В. П. Вомперского, Т. В. Василенко и др.), отметим лишь некоторые, важные, с нашей точки зрения, положения, которым не уделялось должного внимания. В работе «Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится риторика, показующая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки» (1748 г.) в главе «О изобретении витиеватых речей» М. В. Ломоносов пишет: «…Предлагаем здесь несколько правил о изобретении витиеватых речей, о чем древние учители красноречия мало упоминают. Но сие показываем не с таким намерением, чтобы учащиеся меры не знали и последовали бы нынешним италианским авторам, которые, силясь писать всегда витиевато и не пропустить ни единой строки без острой мысли, нередко завираются» [Ломоносов 1952: 205-206]. Пристальное внимание М. В. Ломоносова к учению «о изобретении витиеватых речей» объясняют тем, что «витиеватые речи представляют собой комплекс важных синтаксико-стилистических приемов, с помощью которых можно создать речь, богатую идейным содержанием, полную неожиданных смысловых ассоциаций» [Вомперский 1970: 170-171]. «Витиеватые речи», или, как их еще называет М. В. Ломоносов, «замысловатые слова», «острые мысли», есть «"суть предложения, в которых подлежащее и сказуемое сопрягаются некоторым странным, необыкновенным или чрезъестественным образом…» [Ломоносов 1952: 204-205]. Описывая способы необыкновенного сопряжения подлежащего и сказуемого, М. В. Ломоносов по сути характеризует механизмы (принципы построения) РП, о чем свидетельствуют приводимые им примеры витиеватых речей. Так, одна из разновидностей витиеватых речей производится «чрез соединение, когда виды, некоторое сопротивление или несходство имеющие, соединяются вместе: В златые дни со львом бессильный агнец спал, И голубь с ястребом безбедно в лес летал» [там же: 206]. Перед нами прием, который в современной терминологии обозначается как «прием нарочито неправдоподобного описания» [Москвин 2000: 44]. 202
Другая разновидность витиеватых речей рождается, «когда действия, свойства или обстоятельства частей одно на другое переменяются: Для чего слепой лучше прочих слышит, глухой лучше видит? для того, что оный ушьми видит, а сей глазами слышит» [Ломоносов 1952: 207]. Здесь мы видим катахрезу (ушьми видит, глазами слышит) – «тропеическое сочетание в одной синтагме двух или нескольких несовместимых, но не контрастных слов» [Береговская, Верже 2000: 43]. Всего М. В. Ломоносовым описаны 14 способов создания витиеватых речей: «1) соединение, 2) разделение, 3) приложение, 4) отъятие, 5) включение, 6) выключение, 7) пренесение, 8) превращение, 9) увеличение, 10) умаление, 11) умножение, 12) уравнение, 13) противуположение, 14) уподобление». Семь из них (а именно соединение, приложение, отъятие, увеличение, умаление, умножение, превращение) применяются в дальнейшем при объяснении правил к составлению вымыслов в главе восьмой «О вымыслах». Еще одним способом к составлению вымыслов называется «преложение с места на место или из одного времени в другое» [Ломоносов 1952: 237], то есть, говоря современным языком, он описывает приемы, которые сейчас терминируются как топотезия и хронотезия. Вымыслом у М. В. Ломоносова «…называется идея, противная натуре или обыкновениям человеческим, заключающая в себе идею обыкновенную и натуральную и оную собою великолепнее, сильнее или приятнее представляющая. От витиеватой речи тем разнится, что сия больше состоит в мыслях и тонких рассуждениях, а вымысел от мысленных вещей отъемлется и представляется живо, как нечто чувствительное». Соч. 1759: «Вымыслами называются предложения, которых действительно на свете не бывало или хотя и были, однако некоторым отменным образом» [там же: 220]147. Учение о вымыслах и их роли в расположении частей речи М. В. Ломоносова интересно сопоставить с таким высказыванием одного из современных исследователей: «При построении описания изображаемый предмет должен представляться органично и правдоподобно. Правдоподобие – соответствие описания опыту чита147
Иное понимание вымысла встречаем в доломоносовских риториках, в частности в «Риторике» Макария, где к числу «вымыслов» относятся тропы и фигуры (см. анализ этой риторики в [Вомперский 1970: 26]). 203
теля, которое позволяет воспринимать описываемый предмет как действительно существующий или возможный» [Волков 2001: 249]. М. В. Ломоносов же считал возможным и даже в некоторых случаях целесообразным отступления от стандартных представлений о мире: «Возвышение слова хотя зависит много от украшений , – пишет он, – однако и от вымыслов получает оно не меньшее великолепие » [Ломоносов 1952: 221]. Тем самым ученый обосновывает правомерность рассмотрения вымыслов («приемов нарочито неправдоподобного описания») не только в разделе «Изобретение речи», но и в разделе, посвященном ее украшению. О том, что вымысел связан не только с содержанием, но и с украшением речи, свидетельствует следующее замечание М. В. Ломоносова, помещенное в части «О украшении», где он рассуждает о такой фигуре, как заимословие: «Заимословие бывает когда то, что самому автору или представляемому от него лицу говорить должно, отдается другому лицу, живому, либо мертвому, или и бездушной вещи, почему сия фигура немало надлежит до вымыслов» [там же: 270]. Вымыслы М. В. Ломоносов подразделяет на «прямые», в которых идеи «предлагаются просто, наподобие подлинных деяний, без всяких оговорок» [там же: 223], и «косвенные», имеющие «…в себе некоторую оговорку или какое-нибудь умягчение, чем они с правдою сопрягаются и к ней ближе подходят…» [там же: 224]. Разграничение «прямых» и «косвенных» вымыслов можно проиллюстрировать отрывком из газетной статьи В. Брута «Отчего у Волка большие зубы». В ней рассказывается об одном случае в скором поезде, когда на глазах у ревизоров работники вагона-ресторана стали поедать отчетные бумаги. После повествования об этом необычном эпизоде журналист пишет: Говорят, что после этого случая обе стороны повели активную подготовку к новым диалогам! Остальные бригады вагонов-ресторанов начали усиленные тренировки по скорейшему поеданию компромата, а проверяющие испытывают новые защитные перчатки. И далее: На днях проснулся от диких сновидений. Вокруг сновали известные политики – не только отечественные, но и зарубежные. Все дружно запихивали себе в рот бумаги. Жуя, они шепелявили, что впредь никогда не осмелятся принимать необдуманных и вредных решений. Не то чтобы они раскаивались, а просто опасались, что гербовая бумага с высокими указами и приказами не в пример минувшим годам пошла нынче очень дурного качест204
ва. Что обещает болезненные ощущения (ЛГ. 12-18.05.2004). Перед нами в первом случае – в терминах М. В. Ломоносова – «прямой вымысел», во втором – «косвенный вымысел». Второй случай мы рассматриваем как прием неправдоподобия, нейтрализованный в контексте за счет фразы «На днях проснулся от диких сновидений». Вымыслы М. В. Ломоносов подразделяет также на «чистые» и «смешанные». «Чистые состоят в целых повествованиях и действиях, которых на свете не бывало, составленных для нравоучения» [там же: 222], «смешанные вымыслы состоят отчасти из правдивых, отчасти из вымышленных действий, содержащих в себе похвалу славных мужей или какие знатные, в свете бывающие приключения, с которыми соединено бывает нравоучение» [там же: 223]. Надо сказать, что М. В. Ломоносов уделяет большое внимание идее целесообразности использования вымыслов (особенно «чистых»): «Французских сказок, которые у них романом называются, в числе сих вымыслов положить не должно, ибо они никакого нравоучения в себе не заключают и от российских сказок, какова о Бове составлена, иногда только украшением штиля разнятся, а в самой вещи такая же пустошь, вымышленная от людей, время свое тщетно препровождающих, и служат только к развращению нравов человеческих и вящему закоснению в роскоши и плотских страстях» [там же: 223]. Ломоносовская оппозиция чистых и смешанных вымыслов, по мнению А. П. Сковородникова, имеет ближайшее отношение к теории параонтологических приемов как мотивированных отклонений от нормативной «языковой картины мира», а учение М. В. Ломоносова «как составлять чистые и смешанные вымыслы» намечает возможные их разновидности, а значит и типы параонтологических приемов [Сковородников 2004а: 20]. А. П. Сковородников, описывая на материале текстов русской постмодернистской литературы выделяемые М. В. Ломоносовым способы (правила) составления вымыслов, рассматривает проблему их соотношения и приходит к выводу, что принцип (способ – в терминологии М. В. Ломоносова) приложения («придание объекту изображения элементов и/или свойств объекта другой классификационной категории») является количественной разновидностью принципа соединения («соединения онтологически несовместимых явлений в одно целое») [там же: 22]. В отличие от М. В. Ломоносова, при трактовке способов А. П. Сковородников выходит за рамки биологиче205
ской телесности и – шире – за рамки природных объектов. «Плодовитость» приемов, по его мнению, становится заметнее, если иметь в виду любой объект материальной или духовной сущности. В дальнейшем в риторических пособиях, в том числе современных, теория вымыслов М. В. Ломоносова применительно к учению об украшении речи и шире элокуции не нашла должного отражения, очевидно, потому, что их авторы не обратили внимания на ее практическую значимость. Это, в свою очередь, подтверждает мысль: «…его наследие далеко нельзя считать освоенным» [Аннушкин 2004а: 54]. Обратим внимание также на тот факт, что «фигуры предложений», выделяемые М. В. Ломоносовым, далеко не однопорядковы148 в том смысле, что среди них мы найдем и речевые тактики (например, сообщение – «…есть когда у самих, пред которыми слово предлагается, совета требуем или и у соперников» [Ломоносов 1952: 273], уступление «…есть, когда что соперникам или противникам уступаем и из того наводим нечто большее, чем уступленное опровергается или уничтожается» [там же: 275]), и жанры (например, изречение – «краткое и общее предложение идей, особливо до нравоучения надлежащих» [там же: 263]), и такие явления (например, вопрошение, единознаменование, восклицание, обращение, повторение), которые современными исследователями именуются риторическими фигурами или стилистическими приемами. Тем не менее классификация фигур, предложенная М. В. Ломоносовым, сыграла большую роль в развитии теории «украшения речи», поскольку выявленный им семантико-синтаксический критерий разграничения фигур [Василькова 1990: 169] был ведущим и в последующих риториках ломоносовской школы вплоть до конца ХVIII века. Представленное у М. В. Ломоносова деление фигур на «фигуры речений» и «фигуры предложений» сохраняется во второй половине ХVIII – начале ХIХ в., в частности в «Кратком руководстве к оратории Российской» (1778) Амвросия, в «Опыте риторики» (1796) И. Рижского (только «фигуры речений» у него обозначены как «фигуры слов»). На традиционных основаниях строится и дальнейшая типология этих фигур. Так, в «Основаниях российской словесности» 148
Эта неоднопорядковость сохраняется во всех последующих риториках вплоть до нашего времени. 206
(1807 г.) А. С. Никольского среди «фигур речений» выделяются: «фигуры, состоящие в недостатке слов» (удержание, бессоюзие); «фигуры, состоящие в излишестве слов» (изобилование, многосоюзие, единознаменование); «фигуры, украшающие речь повторением слов» (усугубление, единоначатие, единозаключение, совокупление, возвращение, восхождение, окружение, наклонение); «фигура, состоящая в сходстве слов» (соответствие). Среди «фигур предложений» рассматриваются: заятие, уступление, сообщение, разделение, определение, прохождение, наращение, поправление, сомнение, вопрошение, обращение, заимословие, восклицание, сокращение (по [Русская риторика 1996: 113-125]). По мнению Н. Ф. Кошанского, фигуры слов149 рождаются 1) от недостатка слов (умолчание и бессоюзие), 2) от изобилия (изобилование, многосоюзие и единозначение, 3) от повторения (усугубление, возвращение, единоначатие, единоокончание, совокупление, восхождение, окружение, наклонение, отличение, соответствие) и 4) от сходства [Общая реторика 1844: 92-96]. Обращает на себя внимание и тот факт, что помимо семантикоструктурного основания классификации, в старинных русских риториках используется интенциональный критерий. Н. Н. Василькова пишет о том, что попытка создания типологии фигур, в которой учитывалось значение интенции, была предпринята И. С. Рижским. Он пишет: «Что же касается до фигуръ словъ, то иныя изъ нихъ служатъ къ изображенiю такой стремительной страсти, которая препятствуетъ достаточнымъ образомъ выразить свои мысли; иныя къ живѣйшему выраженiю важнѣйшей предъ прочими мысли; иныя наконецъ единственно къ украшенiю и прiятности слова» [Опыт риторики… 1809: 49]. К фигурам, служащим «стремительной страсти», он относил удержание и бессоюзие. Фигуры, служащие «для 149
В литературе [Василькова 1990: 16; Русская риторика 1996: 47] встречается неверное утверждение, что «фигуры слов», которые ранее (у М. В. Ломоносова, А. С. Никольского, И. С. Рижского) выдвигались на первое место, в работе Н. Ф. Кошанского не рассматриваются. Это объясняют тем, что под влиянием реформ Н. М. Карамзина происходило переосмысление стилистических категорий и преобразование в языке было направлено в первую очередь на синтаксическое строение периода. 207
живѣйшаго выраженiя важнѣйшей мысли», подразделяются на два типа: а) фигуры, состоящие в употреблении таких слов, без которых смысл может быть полным (изобилование, многосоюзие, единознаменование); б) фигуры, основанные на повторении слов (усугубление, единоначатие, единоокончание, совокупление, возвращение, возхождение, окружение). Фигуры, «служащiя къ украшенiю и прiятности слова», – приложение и соответствие [там же: 49-54]. На этом же основании И. Рижский классифицирует и фигуры предложений: фигуры, служащие «къ подтвержденiю стороны вытiи» (уступление; сообщение); фигуры, служащие «къ украшенiю и вмѣстѣ разумноженiю его слова» (прехождение; преминение, отличение, невозможность, наращение, противоположение, изображение, определение риторическое, сравнение, напряжение), и фигуры, служащие «къ возбужденiю страстей» (поправление, сомнение, заимословие, вопрошение, умолчание, восклицание) [там же: 54-63]. В «Общей реторике» Н. Ф. Кошанского в основу классификации фигур положен также «интенционально-смысловой критерий», как его определила Н. Н. Василькова [Василькова 1990: 16]. Тропы он называет языком воображения, а фигуры – языком страстей [Общая реторика 1844: 87]. Тропы и фигуры бывают, как пишет Н. Ф. Кошанский, «въ словахъ и въ мысляхъ» [там же: 92]. Особый интерес представляет классификация фигур мыслей, которые он подразделяет на следующие типы: – фигуры, убеждающие разум (предупреждение, ответствование, уступление, разделение, перемещение, остроумие, отступление, возвращение, наращение, поправление); – фигуры, действующие на воображение (изображение, одушевление, заимословие, противоположение, сравнение, определение реторическое, напряжение, превышение, умаление, невозможность); – фигуры, пленяющие сердце (сообщение, сомнение, умедление, обращение, прехождение, удержание, заклинание, желание, вопрошение, восклицание) [там же: 96-106]. Впоследствии классификация фигур Н. Ф. Кошанского по способу интенционально-смыслового воздействия воспроизводится в несколько иной терминологии у А. Г. Глаголева. В работе «Умозрительные и опытные основания словесности» (1834) он пишет: «…Фигуры, украшающие речь оратора, бывают трех родов: одни из 208
них имеют целью убеждение разума , как то: п р о т и в о п ол о ж е н и е, с р а в н е н и е, р а з д е л е н и е и т.п.; другие пленяют воображение , например: о д у ш е в л е н и е, и з о б р а ж ен и е, о б р а щ е н и е и д и а л о г; наконец, все прочие : в о ск л и ц а н и е, з а я т и е, в о п р о ш е н и е, п о в т о р е н и е, п ер е р ы в и пр.» (Цит. по [Русская риторика 1996: 195]). Как и в предшествующих риториках других авторов, наблюдается ситуация, при которой «некоторые виды аргументов, как ораторское определение, синтез, иллюстрация и модель, рассматриваются в изобретении, расположении и элокуции, причем таким образом, что один и тот же прием определяется то как вид аргумента, то как фигура речи», в риторике Н. Ф. Кошанского «эти внутренние несоответствия еще более запутаны» [Галиб 1994: 161]. В число фигур попадают неоднопорядковые явления. Ср., например, одушевление (прозопопея) и сообщение (апелляция к совести слушателей), заклинание (призвание бедствий за нарушение клятвы), желание (требование благ для себя или милого сердцу). Тем не менее описание тропов и фигур Н. Ф. Кошанским представляло собой «…вершину полноты и педагогического совершенства. Каждый из терминов имел латинский перевод – фактически весь российский опыт предыдущих классификаций как в русских, так и в латинских риториках, был обобщен в руководстве риторического учителя А. С. Пушкина» [Аннушкин 2004б: 138]. Интенциональный критерий классификации фигур соприкасается с функциональным критерием, поскольку функции речевых единиц в определенной степени зависят от намерения адресанта и оба критерия являются прагматическими. Поэтому функциональный критерий в какой-то степени можно считать традиционным в отечественной риторике. На основе функционального критерия М. Л. Гаспаров с опорой на Г. Лаусберга фигуры мысли подразделяет на четыре группы: – фигуры, уточняющие позицию оратора и служащие обычно приступом к рассуждению (предупреждение, предвосхищение, уступка, дозволение); – фигуры, уточняющие смысл предмета, к которому подходят с четырех сторон: от общепринятого взгляда (определение), от сходства (поправление), от контраста (антитеза) и от парадокса (присвоение); 209
– фигуры, уточняющие отношение к предмету, подчеркивающие его важность от имени говорящего (восклицание), от предмета (фигура «задержки»), от других живых и реальных лиц (этопея), от умерших людей или отвлеченных образов (просопопея); – фигуры, уточняющие контакт со слушателями (обращения и вопросы) [Гаспаров 1997: 571-572]. Современные исследователи Л. К. Граудина и Г. И. Кочеткова выделяют, как они пишут, «по ряду существенных признаков» (по сути, по функциональному критерию) три основных класса стилистических фигур: 1) суггестивные фигуры (аллитерация, анафора, эпифора, парономазия, хиазм, «приемы использования ритмичных равночленов»); 2) эмфатические фигуры (антитеза, градация, антиципация, мейозис, литота, гипербола); 3) изобразительные фигуры (риторический вопрос, риторическое определение, риторическое обращение, заклинание, сентенция, афоризм) [Граудина, Кочеткова 2001: 398-408]. М. И. Панов считает, что наиболее употребительные фигуры мысли можно условно разбить на две группы: «1) Ф., ориентированные на аргументацию; 2) Ф., имеющие эмоциональную окраску. Тогда первую группу Ф. мысли составят: риторическое определение; риторический вопрос, или вопрошение; изречение, или апофегма; ответствование; уточнение. Вторую группу тогда составят следующие Ф. мысли: амплификация; апосиопеза, или умолчание; просопопейя, или олицетворение; опущение, или паралепсис; обращение; восклицание; сожаление; мольба и т.д.» [ПР 1998: 268]. Опыт классификации фигур с учетом не только структурных, но и функциональных особенностей представлен в «Курсе русской риторики» А. А. Волкова. Среди фигур речи (риторических фигур) на основе функционального критерия он выделяет фигуры выделения, «посредством которых сопоставляются или подчеркиваются те или иные стороны мысли», и фигуры диалогизма, являющиеся «имитацией диалогических отношений в монологической речи». Фигуры выделения на основе особенностей построения подразделяются далее на следующие типы: 1) добавления и повторы (эпитет, плеоназм, синонимия, аккумуляция, градация, экзергазия, реприза, восхождение, отличение, наклонение, сочетание, анафора, эпифора, окружение, конкатенация, интерпретация, эксплеция, многосоюзие и бессоюзие); 2) сокращения и значимые нарушения смысловой и грамма210
тической связи (эллипсис, силлепсис, эналлага, ирония, анаколуф, удержание); 3) перестановки и трансформации (гипербатон, хиазм, эпанодос, антиметабола); 4) распределение элементов фразы (разделение, соответствие, антанаклаза, эпимона); 5) определения и сравнения (определение, сравнение, перифраз, этимология, антитеза, парадиастола, оксюморон). К фигурам диалогизма исследователь относит диалог, предупреждение, ответствование, сообщение, заимословие, цитату, аллюзию, риторический вопрос, риторическое восклицание и риторическое обращение [Волков 2001: 310-330]. Противопоставляемые в классификации А. А. Волкова параметры, по мнению В. П. Москвина, «носят частный характер, для разработки общей классификации неприемлемый» [Москвин 2006а: 14]. Думаем, что параметр разграничения «фигур выделения» и «фигур диалогизма» – функциональный. Функциональный же критерий положен в основу общей классификации выразительных средств у В. П. Москвина, о которой мы будем говорить ниже. Говоря о классификации фигур в истории риторики, нельзя не назвать книгу А. З. Зиновьева «Основания русской стилистики по новой и простой системе» (1838). В первой части этой книги («Предварительные понятия») содержится глава «Фигуры», по мнению Т. Ф. Дельской, обстоятельно разработанная. В зависимости от смысла и стилистических функций А. З. Зиновьев разделяет фигуры на три группы: – «фигуры качества» (тропы): метонимия, метафора, синекдоха и гипербола; – «фигуры количества» (могут использоваться для «придания речи большей точности, созерцательности и живости): а) «фигуры распространения» (повторение, описание слова или понятия, эпитеты, приложения); б) «фигуры сокращения» (опущение, слитие); в) фигуры, содействующие силе выражения (антитеза и парадокс); – «фигуры отношения», или изменений внутри тех или иных синтаксических конструкций относительно а) порядка членов (перемещение, восхождение, уступление), б) связи (бессоюзие и многосоюзие), в) соразмерности – предполагающие разговор (поправление; монолог, апострофа) и параллель (предложения по содержанию подобные или противоположные) (по [Дельская 2004: 73-74]). Выделение таких групп фигур, как «фигуры качества» и «фигуры количества», наряду с другими типами, мы находим, напр., в [Мороховский и др. 1991: 164; Хазагеров 1984: 53]. 211
Ни одна из классификаций фигур на функциональной основе не стала более или менее общепринятой. Это можно объяснить тем, что «…прямой зависимости между стилистическим приемом и функцией не существует» [Овсянников 1980: 62]. Одна и та же функция может быть свойственна многим приемам, и, наоборот, один и тот же прием может выполнять различные функции в зависимости от контекста, причем в некоторых случаях одновременно несколько функций, в результате чего соблюдение единого основания в процессе классификации оказывается затруднительным. Есть доля правды и в таком высказывании (о классификации Н. Ф. Кошанского): «Подразделение риторических фигур и приемов на фигуры мысли и фигуры, услаждающие сердце, при их классификации оказывается суждением вкуса или стилистической оценки. При современном обобщенном понимании аргументации все эти фигуры могут рассматриваться в качестве аргументативных и соотношение сравнения и ответствования или предупреждения будет определяться исходя из речевых привычек и предпочтения частной аудитории» [Галиб 1994: 128]. Полагаем, что функции приема в значительной мере зависят не только от контекста, но и от субстанциональных особенностей. Поэтому при общей классификации РП более значимым критерием считаем структурный150, хотя в идеале должны учитываться и специфика построения приемов, и закономерности их употребления. Во второй половине ХIХ века интерес к риторике в России, как известно, стал угасать. В учебниках по теории словесности, риторике, стилистике информация о фигурах речи, по наблюдениям Е. В. Маркасовой, сокращается за счет пересмотра состава фигур и комментариев к определению тех немногих фигур, которые еще остаются в поле зрения филологов [Маркасова 2002: 44]. В начале ХХ века риторика воспринималась как «…устаревшая система средств речевого воздействия, которые ни на кого не воздействуют» [Михальская 1996а: 29]. Многие теоретические вопросы риторики, ораторского мастерства оказывались вне поля зрения исследователей. Конечно, нельзя сказать, что риторическая проблематика в это время совсем не разрабатывалась. В 1918 году в Петрогра150
«Класть в основание классификации РП функцию без учета механизма ее порождения – все равно что ставить телегу впереди лошади» [Сковородников 2007: 32]. 212
де был открыт первый в мире Институт живого слова, преподаватели которого предложили специальные программы по теории красноречия, теории спора, теории словесности. В Научно-исследовательском институте речевой культуры в лаборатории публичной речи был подготовлен сборник статей «Практика ораторской речи» под редакцией К. А. Эрберга и В. М. Крепса, который затем вышел в свет в 1931 году. К этому времени относится деятельность В. Гофмана и К. А. Сюнненберга, В. В. Виноградова, В. Шкловского и др. (более подробно о данном периоде развития риторики см. в [Граудина, Миськевич 1989: 204:242]. Психолингвистические труды начала ХХ века, непосредственно посвященные фигурам речи, оказываются недостаточно известными. Это «Фигуры речи. Психологические исследования» Гертруды Бак и «Теория словесности…» И. П. Лыскова [Хазагеров, Ширина 1999: 30]. Особую роль в пересмотре места и значения теории фигур речи в начале ХХ века, по мнению Е. В. Маркасовой, сыграла статья А. Г. Горнфельда «Фигура в поэтике и риторике», опубликованная в 1902 году в словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона. Она является «квинтэссенцией массовых представлений о фигуре в ХIХ – начале ХХ в. и о тех источниках информации, которые в то время были востребованы читателем» [Маркасова 2002: 47]. На время «простоя риторики», как пишет Е. В. Клюев, тропы и фигуры перекочевали в поэтику, стилистику и теорию литературы, превратившись затем из речевых приемов вообще в «речевые приемы художественной литературы» [Клюев 1999: 8]. Со второй половины ХХ века происходит «возрождение» риторики, исследователи разных стран снова обращаются к проблеме классификации тропов и фигур речи. Известны классификации таких ученых, как: Х. Перельман, профессор философии и логики Брюссельского университета, основатель теории аргументации; исследователь-германист по риторике и лингвистике текста Г. Ф. Плетт; Ж. Дюбуа, Ф. Эделин, Ж. М. Клинкенберг, П. Менге, Ф. Пир, А. Тринон – представители Льежской неориторической школы – группы µ (Бельгия); Ж. Коэн, написавший работу «Теория фигур», и другие. Обзор их классификаций представлен в книгах: [Неориторика… 1987: 57; 130-132, Безменова 1991: 36-42; Грановская 2004: 201, 204; Пекарская 2000а: 161, 164-165; Сырма 2007: 5165; ЭК 2005: 338, 392]. Поэтому перейдем сразу к отечественным публикациям. 213
И. В. Пекарская, проанализировав описание фигур речи в лингвистических работах второй половины ХХ века, в 1999 году писала: «Удивляет тот факт, что до недавнего времени в пособиях по риторике и работах риторического цикла специального пристального внимания изучению тропов и фигур не уделялось. Иногда информация о них просто отсутствует , в другом случае называются единичные "особые приемы" , причем иной раз без разделения их на тропы и фигуры » [Пекарская 1999: 109]. С тех пор вышло много новых пособий по риторике. Авторы некоторых из них тропы и фигуры рассматривают вне какой-либо классификации, что, на наш взгляд, не способствует их системному осмыслению. Так, в одном из учебных пособий по деловой риторике читаем: «…В современной риторике роль и состав тропов и фигур точно не определены, несмотря на то, что в античности именно риторика положила начало их описанию и классификации. Однако и мы не станем предлагать какую-либо классификацию тропов и фигур, для практических нужд риторики знакомство с ними и тем более тщательное их изучение совершенно излишне. Это объясняется, во-первых, тем, что большинство фигур не обладает такой степенью выразительности, чтобы придать речи какую-то окраску, а во-вторых, если в художественном тексте их употребление "не свидетельствует о его художественности", то тем более не свидетельствует о выразительности их употребление в риторическом тексте». После такой неубедительной аргументации авторы учебного пособия подробно останавливаются на описании только метафоры и сравнения, так как считают, что «остальные тропы обладают меньшей воздействующей силой, а иногда и просто не воспринимаются нашими слушателями» [Анисимова, Гимпельсон 2002: 208]. Хотя авторы пособия, безусловно, правы в том, что «…многие традиционные тропы и фигуры имеют гораздо более важное риторическое значение, чем простое украшение речи» [там же: 205]. Многие исследователи воспроизводят либо в той или иной мере варьируют традиционные классификации фигур речи и/или тропов (см., напр.: [Зарецкая 1998: 376, 422; ПР 1998: 267-270; Далецкий 2003: 227-239; Фатеева 2004: 414-440]). Это связано с отсутствием общепринятой непротиворечивой классификации РП (фигур речи, тропов, стилистических приемов). Особый интерес для нас представляют те современные классификации, которые отражают авторский взгляд на сущность и/или предназначение приема. 214
2. Нетрадиционные подходы к типологии риторических приемов в современном отечественном языкознании К нетрадиционным подходам в типологии РП (прежде всего тропов и фигур) мы относим такие аспекты их рассмотрения, которые не были представлены в античности, а также в русской риторике до ХХ века. Поскольку за тысячи лет изучения приемов многое сделано, в рамках классификаций нетрадиционный подход, как правило, совмещается с традиционным. Наибольший интерес для нас представляют классификации фигур по образующему их принципу (об этих классификациях мы говорили в первой части в связи с проблемой иерархии принципов, продуцирующих приемы), а также классификации таких исследователей, как Е. В. Клюев, Т Б. Радбиль, В. П. Москвин, А. П. Сковородников, Т. Г. Хазагеров и Л. С. Ширина. Рассмотрим эти классификации в хронологическом порядке.
2.1. Классификация риторических приемов Т. Г. Хазагерова и Л. С. Шириной Статьи «Словаря риторических приемов» Т. Г. Хазагерова и Л. С. Шириной, представленного в книге «Общая риторика…», описывают, по словам авторов, «…все типы риторических приемов (фигур) и их главные, общеизвестные варианты [Хазагеров, Ширина 1999: 189]. Подача термина фигура в приведенной цитате в скобках и несколько иное название первого издания этой книги («Общая риторика: Курс лекций. Словарь риторических фигур») свидетельствуют, на первый взгляд, об отождествлении понятий фигура и РП. Однако в тексте лекций и в словаре эти понятия определяются по-разному. Полное определение РП Т. Г. Хазагеровым и Л. С. Шириной мы давали в первой части нашей работы, поэтому здесь приведем его в сокращенном варианте: «риторический прием – это способ привлечения внимания к коммуникативной установке нового типа или к коммуникативной установке сходного типа, но противоположной посвоему конкретному наполнению…» [там же: 96-97]. Фигура определяется как «…специальное средство усиления изобразительности, состоящее из двух компонентов – сопоставляемого и сопоставляю215
щего, которые, объединяясь, формируют общее сложное представление. Сопоставляемое непосредственно связано с основным содержанием сообщения. Вместе с тем оно называет предмет или явление с помощью таких знаков, семантическая структура которых, закрепленная в повседневном употреблении, в данной речевой ситуации нуждается в особых уточнениях. Сопоставляющее непосредственно не связано с содержанием сообщения и используется только для уточнения семантики сопоставляемого, которое приобретает некоторые новые характеристики в рамках сложного представления, возникающего в процессе сопоставления» [там же: 275]. Таким образом, все фигуры основаны на сопоставлении, ассоциировании двух представлений с целью формирования третьего. В широком же смысле под риторической фигурой понимается «всякое специальное средство усиления изобразительности» [там же: 119]. Все риторические фигуры в широком смысле этого слова относятся к адгерентным средствам экспрессивности, т.е. таким средствам, которые приобретают экспрессивность в определенным образом организованном контексте, в отличие от ингерентных средств – слов и выражений, которым экспрессия внутренне присуща как элементам (единицам) языка [там же: 174-175]. Ингерентные средства языка, усиливающие изобразительность и выразительность речи, и адгерентные средства (фигуры) есть разновидности стилистического приема [там же: 178]. Т. Г. Хазагеров и Л. С. Ширина, по сути, выстраивают две классификации РП. Первая классификация основана на эффекте, который вызывают у адресата те или иные приемы. В соответствии с ней РП сводятся к двум основным типам: «1а. Резкое снижение эмоционального напряжения у убеждаемых151 (чаще всего с помощью шутки, каламбура152, смешного рассказа и пр.), необходимое для освобождения "психического пространства", занятого коммуникативной установкой такого типа, который отличается от необходимого убеждающему.
151
Точнее было бы сказать примерно так: «Речевые приемы, направленные на резкое снижение эмоционального напряжения…». 152 О возможности трактовки каламбура наряду с шуткой как жанром см. в [Сковородников, Дамм 2001: 191]. О жанре шутки см. [Щурина 1999: 147-152]. 216
1б. Резкое повышение эмоционального напряжения, необходимое для наложения на освободившееся "психическое пространство" коммуникативной установки нового типа, нужной убеждающему» [там же: 97]. «2. Снижение эмоционального напряжения у убеждаемого путем уступки, временного принятия коммуникативной установки типа, сходного с тем, который нужен убеждающему, но противоположного по своему конкретному наполнению» [там же: 98]. Эта классификация сближается с теми типологиями фигур, которые предпринимались в истории риторики на основе функционально-прагматического критерия, так как производимый приемами эффект может рассматриваться как оборотная сторона коммуникативной интенции. Более интересна другая классификация – разграничение фигур по критерию лингвистической охарактеризованности / неохарактеризованности (в отдельную группу выделяются так называемые «неспециально охарактеризованные фигуры» (см. дефиниции терминов в [там же: 192-282])). Это тот нетрадиционный подход к типологии приемов (в античных и старинных русских риториках названные типы классификаций фигур никак не разграничивались), благодаря которому прежде всего мы и рассматриваем эту классификацию в данном параграфе, поскольку некоторые другие подтипы фигур (тропеические, или фигуры мысли / нетропеические, или фигуры слова, и их разновидности) выделяются названными исследователями традиционно. В работе Г. Г. Хазагерова «Функции стилистических фигур в газетных заголовках…» объясняются причины неразграничения лингвистически охарактеризованных и не охарактеризованных средств в истории риторики. Рассматривая анамнезис (детальное перечисление событий прошлого), аккумуляцию (нагромождение похвал или обвинений с целью суммирования принесенного ущерба), рационацию (похвала противнику) и другие приемы, «античные риторы, – пишет Г. Г. Хазагеров, – иллюстрировали их примерами из практики известных ораторов, где каждый из приемов, разумеется, получал конкретное языковое выражение, нередко "необычное", основанное на использовании какой-либо фигуры. Но в самом определении прием не был охарактеризован как языковое средство, и последующие авторы получали возможность трактовать данное явление либо исходя из конкретной реализации (примера), либо из определения, не даю217
щего точной языковой характеристики. Такой двойственный подход к термину порождал путаницу» [Хазагеров 1984: 27]. В этой же работе говорится о том, что охарактеризованные и неохарактеризованные способы не должны рассматриваться как явления одного ряда. Авторы «Общей риторики…» верно отмечают, что, если под понятие фигур мысли подводить не только специальные средства усиления изобразительности, но и типы описаний различных предметных областей, описания эмоций, чувств, состояний, различные психологические приемы, разновидности жанров, то границы этого понятия размываются [Хазагеров, Ширина 1999: 277-278]. Однако Т. Г. Хазагеров и Л. С. Ширина включают все эти явления в свой словарь, именуя их «неспециально охарактеризованными фигурами». Правда, понятие «неспециальной охарактеризованности» ими не разъясняется. Между некоторыми «неспециально охарактеризованными фигурами» устанавливаются родовидовые отношения (например, элевация и диасирмус рассматриваются как разновидности антирезиса), однако цельной классификации этих речевых феноменов в книге не представлено. Некоторые «неспециально охарактеризованные фигуры» четко не отграничены друг от друга. Например, компенсация и рекомпенсация определяются как «то же, что АНТАНАГОГА (см.)», однако синонимами они названы и в статье «Антисагога». При этом антанагога и антисагога определяются по-разному: антанагога – «неспециально охарактеризованная фигура мысли, связанная с уравновешиванием неблагоприятного аргумента или возможного возражения благоприятным» [там же: 202]; антисагога – «неспециально охарактеризованная фигура, связанная с контрастной оценкой, содержащей похвалу добродетели и осуждение порока, обычно в иносказательной форме» [там же: 205]. В результате «компенсация» и «рекомпенсация» оказываются синонимами двух совершенно разных понятий. Без определений даны анумерация (на которую есть отсылочная статья «Анацефалиозис»), оминация (отсылочная статья «Катаплексия») и адноминация (отсылочная статья «Контенция»). «Специально охарактеризованные фигуры» по характеру используемых языковых единиц Т. Г. Хазагеров и Л. С. Ширина подразделяют на целостные, дискретные и недискретные [там же: 119], что нарушает единство основания при выделении разновидностей этого типа фигур. Определение понятию целостная фигура исследо218
ватели не дают, поэтому этот тип приемов остается для читателя их работы загадкой. Словесные фигуры и фигуры мысли относятся к разряду недискретных фигур, в которых «…сопоставляемое формируется целостными звуковыми единицами – морфемой, словом, словосочетанием, предложением, имеющими и собственный план выражения, и план содержания» [там же: 276]. В дискретных фигурах «…сопоставляющее формируется отдельными звуками (или буквами) независимо от того, образуют ли они целую морфему, слово, словосочетание, или их отдельный произвольно взятый отрезок, или же, наконец, беспорядочно разбросаны по всему высказыванию» [там же: 275]. Среди дискретных фигур выделяются две группы: 1) фигуры, основанные на сопоставлении звуков: звукоподражательные (аллитерация, ассонанс) и паронимические (каламбур и инструментовка); 2) фигуры, основанные на сопоставлении букв и буквосочетаний – графические фигуры (акростих, палиндром, логогриф и др.). В отношении этого членения дискретных фигур В. П. Москвин пишет: «…Аллитерация и ассонанс не всегда связаны со звукоподражанием, а каламбур – с паронимией и инструментовкой, акростих же и палиндром являются не фигурами, а жанрами речи» [Москвин 2006а: 10]. Насчет аллитерации и ассонанса спорить не будем, а вот статус каламбура зависит от того, как понимать этот тип высказываний. Недискретные фигуры подразделяются на тропеические и нетропеические. Тропеические фигуры «построены на сопоставлении денотатов двух или нескольких знаков и, следовательно, отраженных в них референтов или референтных ситуаций окружающей действительности» [Хазагеров, Ширина 1999: 120]. Среди тропеических фигур, основанных на опосредованном сопоставлении планов выражения или планов содержания языковых единиц, выделяются тропы – лексические (метафора, метонимия, перифраза, антифразис и их варианты) и грамматические, в которых предметом сопоставления является не лексическое, а грамматическое значение (обыгрывание форм наклонения, времени, числа; литота, риторический вопрос и др.). Тропеические фигуры могут быть представлены как собственно тропами (в них названо только сопоставляющее), так и фигурными
219
амплификациями153 (названо и сопоставляющее, и сопоставляемое, как, например, в сравнении, антитезе). Нетропеические фигуры Т. Г. Хазагеров и Л. С. Ширина называют также диаграмматическими, так как их изобразительность напоминает изобразительность чертежа, диаграммы [там же: 120-123, 128]. Дальнейшая классификация РП традиционна. Тропы и амплификации подразделяются по типам отношений. Их четыре: отношение тождества, отношение сходства, отношение смежности и отношение контраста. Нетропеические фигуры, основанные на непосредственном сопоставлении материальных свойств звуковых оболочек слов и их значений, подразделяются на фигуры прибавления – контактные (геминация) и дистантные (анафора, кольцо, анадиплозис, гиперзевгма, эпимона и др.); фигуры убавления (эллипсис, асиндетон), фигуры размещения (тмезис, диакопа, парентеза, анаподатон) и фигуры перестановки (инверсия, гистеронпротерон). (См. схему 2.) Не все заявленные «специально охарактеризованные фигуры» имеют определения. В частности, коррекция рассматривается как гибридная фигура, сочетающая свойства риторического вопроса и отрицания, но что представляет собой фигура отрицания, остается неясным, так как соответствующая словарная статья отсутствует. Фигурой-загадкой является дейктический повтор, так как статьи «Дейктический повтор» и «Повтор дейктический» отсылают друг к другу. От антигипофоры дана отсылка к гипофоре, в статье же «Гипофора» об антигипофоре нет ни слова. Важным в рассматриваемой классификации считаем выделение в отдельную группу гибридных фигур, сочетающих в себе принципы построения однотипных или разнотипных изобразительных средств: плока (сочетание прибавления, антитезы и парономазии), гипаллага (метонимическая амплификация, метафора, размещение) и др. Классификацию риторических приемов (фигур) Т. Г. Хазагерова и Л. С. Шириной И. В. Пекарская считает одной из наиболее убедительных «в отношении системного описания орнаментальных средств» [Пекарская 2000а: 161]. Интересными представляются рекомендации ее авторов об использовании фигур при реализации тех
153
Термин «амплификация» использовали в средневековых риториках для обозначения фигур мысли, образуемых словосочетаниями [Хазагеров, Ширина 1999: 128]. 220
или иных доводов. Однако теория «неспециально охарактеризованных фигур» по-прежнему остается неразработанной. Классификация тропов и фигур Т. Г. Хазагерова и Л. С. Шириной частично нашла отражение в [Хазагеров, Лобанов 2004]. Схема 2 Классификация риторических приемов Т. Г. Хазагерова и Л. С. Шириной* Риторические приемы специально охарактеризованные
*
перестановки
размещения
дистантные
прибавления
убавления
нетропеические (фигуры слова, диаграмматические фигуры)
контактные
контрасте
тропеические (фигуры мысли): тропы (лексич. и грамматич.) и амплификации основаны на смежности
на сопоставлении букв и буквосочетаний (графические)
сходстве
парономические
на сопоставлении звуков
недискретные
тождестве
дискретные
звукоподражательные
неспециально охарактеризованные
Эта классификация может быть представлена также в виде таблицы (см. [Пекарская 2000а: 171]). В схеме не отражена группа гибридных фигур. 221
2.2. Тропы и фигуры как область паралогики (Е. В. Клюев) Е. В. Клюев полагает, что традиционная концепция фигуры как отклонения от обычного способа выражения в целях создания эстетического эффекта есть концепция воспринимающего сообщение, но не концепция создающего его. А поскольку риторика всегда была обращена к говорящему, то традиционную концепцию фигуры, по его мнению, едва ли можно назвать риторической. Приписываемую фигурам «особую выразительность» исследователь считает свидетельством «некоторой беспомощности лингвистов перед "стихией фигуральности"» [Клюев 1999: 166]. Да и сами носители языка, как он полагает, едва ли согласятся с тем, что употребляют в собственной речи переносные значения слов для «создания эстетического эффекта», для «придания речи особой выразительности» и для осуществления процедуры «отклонения». Впрочем, думается, едва ли слушатели согласятся и с тем, что они нарушают логические правила в силлогизмах для создания некоторых тропов, как утверждает автор этой классификации. Например, ход рассуждений, давший возможность употребить эвфемизм незаметно приберечь (в значении «украсть»), по мнению Е. В. Клюева, таков: Украсть есть преступление Украсть значит {незаметно} приберечь (следовательно) {Незаметно} приберечь есть преступление [там же: 219]. Если риторика и была обращена к говорящему (что отмечает Е. В. Клюев), то только ради создания эффектов, воспринимаемых слушающими. Конечно, фигуру можно определять по-разному в зависимости от аспекта ее изучения: можно встать на позицию говорящего, на позицию слушающего, а можно встать на позицию исследователя, перед которым стоят те или иные задачи. Согласимся с Е. В. Клюевым, что «…фигуры так же естественны для языка, как слова, использующиеся в прямых значениях…» [там же: 164]. Другими словами, фигуры, тропы и прочие речевые приемы входят в наше представление о языке и специфике его функционирования, в общую картину мира. Однако, очевидно, нельзя однозначно утверждать, что процесс употребления слов в переносных значениях в такой степени автоматизирован, что не ощущается нами 222
как другая мыслительная операция. По крайней мере, любой учитель русского языка скажет о трудностях, связанных с обучением детей мотивированному использованию тропов (мы не имеем здесь в виду общеязыковые тропы), например, при написании сочинения по картине. Не случайно педагоги говорят о необходимости разработки специальной методики обучения речевым приемам. Поэтому можно не согласиться с утверждением Е. В. Клюева: «…Продуцируя их (индивидуально-языковые фигуры. – Г. К.), мы фактически тоже действуем в определенном смысле бессознательно» [там же: 168]. (Ср. с другим высказыванием этого исследователя: «Продуцирование фигур предполагает, в сущности, лишь одно условие: четкое ощущение говорящим того, когда и при каких обстоятельствах понятие или высказывание фигуративно, а когда и при каких обстоятельствах – ошибочно» [там же: 173]). Конечно, «…я не говорю себе: чтобы сравнить один объект с другим, необходимо найти присущее им общее свойство и т.д.» [там же: 168], но это не означает того факта, что я не задумываюсь над выбором слова. Отрицая целесообразность теории отклонения применительно к трактовке фигуры, Е. В. Клюев предположил, что построение сообщения в соответствии с теорией фигур и построение сообщения в соответствии с законами логики имеют один и тот же механизм и что фигуры осознаются как «пары» логическим ошибкам: «…фигура есть просто и откровенно "запуск" механизма ошибки в обратном направлении» [там же: 169]. Но если фигура – «пара» логической ошибке, значит, она есть отклонение, но уже позитивное, в отличие от ошибки. Идея о корреляции фигур с речевыми ошибками не нова (см., напр., [Мурзин 1989]). Однако, поскольку сообщение строится не только в соответствии с логическими законами, но и в соответствии с исторически сложившимися языковыми и речевыми правилами, не понятно, почему фигуры сводятся только к паралогике. Так, о слове Приблатика Е. В. Клюев пишет, что оно «…не имеет право на существование, поскольку фактически провоцирует нарушение закона тождества, в соответствии с которым, стало быть, "всякая сущность совпадает сама с собой". "Сущность", стоящая за словом "Прибалтика" и "сущность", стоящая за словом "Приблатика", со всей очевидностью не совпадают…» [Клюев 1999: 226]. Естественно, не совпадают, ведь это разные лексемы, а значит, закон тождества здесь ни при чем. 223
Под позитивным (логическим) использованием законов построения высказывания Е. В. Клюев подразумевает установку говорящего строить высказывание, соответствующее прямой тактике воздействия, и следовать логическим законам [там же: 169-170]. «Скажем, предлагая адресату сообщение официально-делового типа, я тем самым ставлю его в известность, что использую законы логики, а не паралогики . С другой стороны, выступая с сообщением художественного типа, я (опять же тем самым) даю понять, что специфика сообщений в этой области мне известна, что я не обещаю быть верным логике и что я ожидаю поощрений, в частности за нарушение ее законов» [там же: 172]. В результате механизм воздействия фигуры Е. В. Клюевым объясняется так: «…Паралогика переводит отношения между объектами действительности в отношения между объектами высказывания, фактически подменяя действительность речевой действительностью. Такой тип подмены и сообщает паралогическим высказываниям риторическую функцию» [там же]. Троп определяется исследователем (с учетом традиции и в соответствии с современной концепцией тропа) как явление, предполагающее вариации значений и только как следствие – преобразование структур. Фигуры же – это «прежде всего преобразования фундаментальных структур (и только как следствие – преобразование значений входящих в них элементов)». В основе фигур, по мнению Е. В. Клюева, – «преобразования законов синтаксиса (как репрезентанта логики на уровне структурирования сообщения)». В основе тропов, считает он, лежат «преобразования законов логики (и в первую очередь – аналогии)» [там же: 179]: «…(Троп есть аналогия без называния второго члена сравнения, но с переносом его значений на первый): одно сопоставляется с другим. Причем, как сказано, из двух членов аналогии присутствует лишь один : отсутствие второго члена компенсируется его значением, он как бы делегирует значение наличному члену аналогии. Иными словами, процедура аналогии, как это чаще всего и бывает с тропами, "нарушена" или преобразована» [там же: 180]. Смеем предположить, что процедура аналогии не может и не должна нарушаться154 (второй член сопоставления эксплицитно в тексте не представлен, но возникает в созна154
Примечательны в этом смысле слова Ю. М. Лотмана, которые приводит Е. В. Клюев: «Метафора и метонимия принадлежат к области аналогического (а не парааналогического. – Г. К.) мышления» [Клюев 1999: 182]. 224
нии слушающего в процессе восприятия речи), в противном случае перед нами был бы не троп, а речевая ошибка, связанная с неудачным словоупотреблением (неудачный троп), или другой речевой прием. Тропы подразделяются Е. В. Клюевым на два типа: 1) собственно тропы, в которых нарушен критерий истинности «как критерий, обеспечивающий соответствие содержания действительности», и 2) не собственно тропы, связанные с нарушением критерия искренности, который обеспечивает «выражение на самом деле присущих говорящему мыслей и чувств» [там же: 183]. Думается, что при таком основании классификации четкие границы между обозначенными разными видами тропов не всегда ощутимы, поскольку и искренность, и истинность имеют отношение к общему концепту правды. Особенно это ощутимо в гиперболе, которая рассматривается Е. В. Клюевым как «один из самых известных и запоминающихся "неискренних" тропов», напр.: А денег у него – пять раз Россию купит и еще на мороженое останется [там же: 215]. Но ведь вполне можно представить ситуацию, в которой это высказывание не соответствует критерию истинности и вне всякой аргументации используется с целью дискредитации кого-либо. То же самое можно сказать об эвфемизмах, используемых не только для того, чтобы «не употреблять "плохих" слов и выражений», но и для того, чтобы не называть вещи своими именами, «приукрасить» действительность. Возможна ситуация, когда оба критерия совпадают, в таком случае говорят о соответствии содержания речи действительности: «…Содержание предложения соответствует действительности, если (1) то, что говорит Г, соответствует тому, что он имеет в уме , и если (2) то, что он имеет в уме, соответствует тому, что имеет место в действительности…» [Шатуновский 1991: 31]. Более того, «в некоторых случаях противопоставление истинности и искренности нейтрализуется. Это происходит в высказываниях, описывающих интенсиональные явления, имеющие место во внутреннем мире… Если я искренне говорю, что я хочу/люблю/вижу и т.д. Х, то это значит, что я д е й с т в и т е л ь н о хочу/люблю/вижу и т.д. Х. Здесь искренность S [предложения с его содержательной стороны. – Г. К.] гарантирует его истинность, а точнее – здесь это о д н о и т о ж е» [там же: 31-32]. По И. Б. Шатуновскому, «…правда = ′искренность′ + 225
′истинность′, точнее: правда – это такое S, которое истинно, потому что искренне, т.е. искренне и поэтому истинно» [там же: 34]. Как и тропы, фигуры подразделяются на два вида: 1) микрофигуры – трансформации, осуществляемые в составе структуры слова; 2) макрофигуры – трансформации структуры предложения и более крупных синтаксических единиц. Макрофигуры, в свою очередь, могут быть конструктивными, т.е. «делающими синтаксическую структуру более сбалансированной (в основном за счет всякого рода повторов)», и деструктивными, т.е. «ломающими синтаксические структуры (в основном за счет всякого рода усечений синтаксических конструкций)» [Клюев 1999: 238] (см. схему 3). Такое подразделение макроструктур коррелирует с идеей Э. М. Береговской о разграничении «фигур эквилибра», основанных на синтаксической симметрии, и «фигур дезэквилибра», основанных на «намеренной, акцентированной ломке языковой симметрии» [Береговская 2003: 90]. В. П. Москвин о классификации фигур Е. В. Клюева пишет: «Эллипсис отнесен ученым к разряду макрофигур. Как в таком случае быть со звуковым эллипсисом? Повторы также отнесены к числу макрофигур; между тем повторы имеют межуровневый характер. Приведение подобного рода опровергающих примеров может быть продолжено» [Москвин 2006а: 11]. В этой классификации, представляющей одну из многочисленных попыток исследователей упорядочить известные им речевые приемы, можно обнаружить и позитивные, интересные моменты. В частности, фигуры Е. В. Клюев называет «новыми композициями известных компонентов», что, как нам кажется, является еще одним свидетельством существования у каждой фигуры модели ее построения, некоего инварианта.
226
Схема 3 Классификация речевых приемов Е. В. Клюева Речевые приемы
Тропы
Фигуры
Собственно тропы метафора
Несобственно тропы апосиопеза
Микрофигуры метатеза
катахреза синестезия аллегория прозопопея метонимия синекдоха антономазия гипаллага эналлага эпитет оксюморон антитеза антиметабола эмфаза климакс антиклимакс антанакласис амфиболия зевгма каламбур тавтология плеоназм
астеизм паралепсис преоккупация эпанартоза гипербола литота перифраз аллюзия эвфемизм антифразис риторический вопрос риторическое восклицание риторическое обращение
анаграмма анноминация гендиадис аферезис апокопа синкопа синерезис протеза парагога эпентеза диереза полиптотон этимологическая фигура аллитерация ассонанс палиндром
227
Макрофигуры Конструктивные параллелизм изоколон эпаналепсис анафора эпифора анадиплозис симплока диафора хиазм эпанодос асиндетон полисиндетон апокойну киклос гомеотелевтон
Деструктивные инверсия анастрофа эллипсис парцелляция гипербатон тмезис анаколуф силлепсис аккумуляция амплификация эксплеция конкатенация
2.3. Языковые аномалии как значимые отклонения от принятых стандартов (Т. Б. Радбиль) Поскольку языковая аномальность понимается Т. Б. Радбилем «...как любое значимое отклонение от принятых в данной социальной, культурной и языковой среде стандартов, которое имеет знаковый, т.е. языковой характер манифестации, но необязательно системно-языковую природу» [Радбиль 2006: 3], языковые аномалии, рассматриваемые исследователем, «покрываются» понятием РП как прагматически мотивированного отклонения от нормы или ее нейтрального варианта, чем объясняется наше внимание к проблеме их классификации. После обзора различных оснований классификации аномалий, предложенных Ю. Д. Апресяном, Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелевым, И. М. Кобозевой, исследователь предлагает собственную классификацию языковых аномалий, которая является «некоторой модернизацией уже существующих» [там же: 25]. Он разграничивает следующие типы аномалий [там же: 18-31]: 1) формальные аномалии, не являющиеся предметом его исследования (такие отклонения от орфоэпической, лексической, словообразовательной, морфологической или синтаксической нормы, которые не ведут к искажениям смысла языковой единицы), и аномалии семантические (аномальные вербализации плана содержания языковых единиц, которые возникают как в результате искажения формальной структуры, так и без искажения формы); 2) семантические аномалии и аномалии прагматические (нарушения норм и принципов речевого поведения), подразделяющиеся на два подвида: а) прагмасемантические (находятся «…в промежуточной зоне между собственно семантикой и прагматикой, если конвенциональные пресуппозитивные смыслы слов и словесных конструкций, которые очевидным образом входят в их семантику, относить к прагматической сфере» [там же: 26-27]; это избыточная вербализация пресуппозиции, противоречивая интенциональность, буквализация пресуппозиции и т.п.); б) коммуникативно-прагматические (нарушения в области принципов реализации коммуникативного акта); 3) семантические аномалии и аномалии логические, или концептуальные (логические нарушения при отсутствии «языковой де228
виантности», иллюстрацией которых может служить знаменитый пример Н. Хомского Зеленые идеи яростно спят; другими словами, логические аномалии – это «выражение неадекватной концептуализации мира в языковом знаке» [там же: 29]); 5) аномалии системы и текстовые аномалии, или аномалии текста (нарушения в области общих законов текстопорождения, принципов наррации и организации дискурса; это случаи неадекватной реализации текстовых категорий, аномального ввода в дискурс интертекстовых и метатекстовых элементов и др.). В дальнейшем изложении Т. Б. Радбиль разводит понятия логических и концептуальных аномалий. Он отмечает, что «человеческий способ осмысления мира не сводится к исключительно логическим законам и категориям» и включает логические аномалии, как и прагматические, в концептуальные, предлагая термин концептуальные аномалии оставить только за теми случаями, которые не ведут к аномальности системно-языковой [там же]. Полагаем, что аномалии логические и концептуальные при определенном условии могут быть отнесены к прагматическим на том основании, что в принципах и постулатах речевого поведения отражаются и законы формальной логики (см. постулат релевантности, постулаты качества Грайса), и законы «логики вещей» (см. постулат правдоподобия и постулат качества в его широком понимании). Любопытно, что принципы и постулаты текста, которые выделяют О. Г. Ревзина и И. И. Ревзин, М. Ю. Федосюк, являются адаптацией или модификацией постулатов речевого общения Г. П. Грайса, на что обращает внимание Т. Б. Радбиль [там же: 95-96]. Обобщая их опыт, исследователь группирует «постулаты текста» в три группы, не давая определения термину «постулат текста», в результате чего группы оказываются неоднопорядковыми. Если первая группа – «постулаты возможности нарратива» – представляет собой условия, способствующие адекватному пониманию адресатом создаваемого текста, то вторая (постулаты реализации нарратива) и третья (постулаты структуры нарратива) группы имеют в большей степени предписывающий характер, что отражается в формулировке постулатов, и коррелируют с постулатами речевого общения. Сравните, например, категорию количества Грайса (постулат информативности) со следующими двумя постулатами: а) постулатом информативности / нетавтологичности из группы постулатов реализации нарратива: «каждый новый фрагмент текста должен нести новую информацию, 229
а текст в целом должен быть нетривиален» [там же: 97]; б) постулатом неполноты описания / имплицитной связности из группы постулатов структуры нарратива: «любой текст должен редуцировать бесконечную реальность, прибегая к определенной условности, чтобы не потонуть в подробностях – запрет на избыточную вербализацию пресуппозитивных смыслов)» [там же]. Наличие корреляций между постулатами речевого общения и постулатами текста говорит о наличии некой общей нормы, характерной для речи в ее разных аспектах: отклоняясь от постулата текста, мы тем самым отклоняемся от того или иного принципа речевого общения. Применительно к художественному тексту, рассматриваемому в модусе «реальность», Т. Б. Радбиль выделяет три «уровня аномальной языковой концептуализации», соответствующие категориям «мир», «язык» и «текст» (см. схему 4). 1. Аномальная языковая концептуализация мира (уровень «картины мира», связанный с содержательной стороной текста), включающая аномалии (отклонения от «прототипического мира»): а) «онтологические», или субстанциональные (нарушение связей и отношений между явлениями объективной реальности; мир абсурда и гротеска); б) логические (например, сочетание несочетающихся концептов, нарушения формально логических законов, неинформативные высказывания и т.д.); в) аксиологические, или ценностные (отклонения от «прототипического мира ценностей»); г) мотивационно-прагматические (неинтерпретируемые нарушения в области коммуникативного акта): прагмасемантические и коммуникативно-прагматические. 2. Аномальная языковая концептуализация системы национального языка, подразумевающая аномалии (отклонения от «прототипического языка»): а) лексико-семантические (нарушения в сфере лексической сочетаемости); б) стилистические (немотивированные включения в контекст иностилевых элементов, неадекватная актуализация средства стилистической маркированности); в) фразеологические (трансформации устойчивых единиц); 230
г) словообразовательные (преобразования словообразовательной структуры отдельного слова или словообразовательных моделей); д) грамматические (аномальная вербализация грамматических категорий, нарушение синтаксических моделей и др.). 3. Аномальная языковая концептуализация принципов текстопорождения, характеризующая структурный аспект феномена «текст» и включающая аномалии (отклонения от «прототипического нарратива»): а) аномалии наррации (нарушения общих принципов повествования – сюжетных, фабульных, композиционных); б) аномалии текста (нарушения в актуализации базовых текстовых категорий); в) аномалии дискурса (аномальная субъектная организация повествования, неразграничение «своего» и «чужого» слова, аномалии интертекста) [там же: 44-53, 60-62]. Поскольку текст (текстовую структуру) исследователь относит к языку, а его субъектно ориентированную реализацию (дискурс) – к речи [там же: 91], то аномалии текста логично было бы ожидать в группе аномальной концептуализации системы языка. Надо сказать, что Т. Б. Радбиль не исключает возможность множественной интерпретации языковых аномалий и отсюда возможность их альтернативной классификации, а его вывод о возможном синкретизме языковых аномалий, а также предположение о наличии типовых моделей аномальности [там же: 296-297] подтверждаются проведенным нами исследованием.
231
Схема 4 Классификация языковых аномалий Т. Б. Радбиля Языковые аномалии
232
аномалии дискурса
аномалии текста
Аномалии языковой концептуализации принципов текстопорождения
аномалии наррации
грамматические
словообразовательные
фразеологические
стилистические
Аномалии языковой концептуализации системы национального языка (семантические аномалии)
лексико-семантические
мотивационно-прагматические (прагмасемантические и коммуникативно-прагматические
аксиологические
логические
субстанциональные
Аномалии языковой концептуализации мира
2.4. Соблюдение / несоблюдение качеств речи как основное предназначение выразительных средств и приемов и основание их классификации (В. П. Москвин) В. П. Москвин утверждает, что им предложена «…первая в науке о языке общая классификация стилистических приемов и средств современной русской речи» [Москвин 2000: 3], причем она «охватывает практически все известные фигуры и средства речевой выразительности, обладает объяснительной силой, имеет характер системы, открытой для пополнения» [Москвин 2006а: 18]. Исследователь исходит из того, что «…абсолютно все выразительные приемы и средства по своему назначению напрямую связаны либо с выполнением, либо с нарочитым несоблюдением требований к речи, что делает возможной классификацию таких приемов и средств по их соотношению с качествами речи (т.е. систематизацию по их назначению)» [там же: 15]. Выразительные приемы (фигуры) и средства он подразделяет на два типа: 1) связанные с выполнением требований, предъявляемых к хорошей речи, и 2) связанные с нарочитым несоблюдением этих требований (коммуникативных качеств речи). В результате картина соотношения выразительных приемов и средств современной русской речи выглядит следующим образом (см. таблицу 2). В. П. Москвин справедливо отмечает, что «вопрос о количестве качеств речи (или требований к речи) принадлежит к числу дискуссионных». Далее он пишет: «Будем считать, что р е а л ьн о с т ь качества речи определяется наличием приемов и средств его языкового воплощения» [там же]. Однако если посмотреть на концепцию В. П. Москвина, представленную в табличном варианте, то можно наглядно увидеть «лакуны» в описании приемов и средств, направленных как на соблюдение отдельных качеств речи, так и на их нарочитое нарушение. Кроме того, поскольку к приемам и средствам В. П. Москвин относит не только факты, являющиеся мотивированными отклонениями от нормы, но и нормативные явления (например, «приемы ухода от тавтологии»), то вопрос о «реальности качеств речи» и их количестве не снимается, а, наоборот, становится как никогда актуальным. Более того, как нам кажется, системной может считаться та классификация, основания которой осмыслены, в свою очередь, с точки зрения системного подхода. В про233
тивном случае складывается ситуация, когда элемент системы не имеет строго закрепленного за ним места. В. П. Москвин обоснованно критикует классификацию фигур В. И. Королькова, в которой градация одновременно оказывается в составе разных классификационных разрядов [там же: 12]. Но ведь и в его классификации один и тот же прием в некоторых случаях оказывается в разных группах. Так, получается, что (см. таблицу 2) гиперонимизация способствует разнообразию речи и в то же время нарушает ее точность; метафора направлена на соблюдение ясности, богатства, изобразительности речи, а вот гипербола и литота, которые также могут способствовать изобразительности речи, оказываются только в группе «фигур нарочитого неправдоподобия». Конечно, на основе изучения многочисленной литературы, в том числе на иностранных языках, В. П. Москвин представил достаточно полный и хорошо иллюстрированный перечень всевозможных выразительных приемов и средств русской речи. Вместе с тем у нас вызывает сомнение утверждение о том, что предназначение этих приемов и средств заключается в соблюдении либо нарочитом нарушении качеств хорошей речи. Думаем, что основное их предназначение (функция) – придание речи экспрессивности и отсюда воздействие на адресата, стремление вызвать у него нужную интеллектуальную и/или эмоциональную реакцию. Кстати, судя по названию книги («Выразительные средства современной русской речи: Тропы и фигуры…»), «выразительные средства» в ней – понятие родовое по отношению к «тропу» и «фигуре». «Выразительность» в его словаре подается как синоним «экспрессивности» [там же: 359], следовательно, синонимами являются, в трактовке этого исследователя, понятия «выразительные средства» и «экспрессивные средства». С одной стороны, понятие выразительного средства В. П. Москвиным подается как родовое по отношению к тропу и фигуре (приему), с другой стороны, он пишет о необходимости разграничивать «с р е д с т в а (в частности, тропы)» и «п р и е м ы создания таких средств» как парадигматику и дериватику поля экспрессивности, «…соответствующие его языковому и речевому измерениям» [там же: 358].
234
Таблица 2 Классификация выразительных средств современной русской речи В. П. Москвина (по [Москвин 2006а; Москвин 2006б]) Качество речи 1 Разнообразие
Уместность Правильность Чистота Краткость
Средства, направленные на соблюдение качества 2 Замена перифразой, местоименная замена, гиперонимизация (замена родовым именем), синонимическая замена, другие способы ухода от тавтологии
Приемы эвфемии
Асиндетон; зевгма; метонимия; эллипсис в образовании универбов (госуниверситет), коротких слов (зам.), аббревиатур (МГУ), графических сокращений (тчк. – в телеграммах, Ггль, Грбдв, Пшкн – в словаре Ушакова); «замена сложноподчиненного или сложносочиненного предложения простым полипропозитивным» и др. 235
Средства, направленные на нарочитое несоблюдение качества 3 Повторы: звуковые (аллитерация, ассонанс, звуковой параллелизм, метаграмма, ритм, ритмическая градация и др.); морфемные (корневой повтор, гомеоптотон); лексические (полисиндетон, антанаклаза, эквивокация, подхват и др.); синтаксические (синтаксический параллелизм, морфологический повтор, эпимона, койнотес, мезеотелевтон и др.) Дисфемизмы Анаколуф, солецизм, какография, граффон, фигура метатезного словообразования, диакопа, приемы поэтической вольности, некоторые виды стилизации Макароническая речь, некоторые виды стилизации «Фигуры нарочито пространной речи»: различные виды амплификации (прием перечисления, систрофа, эпитрохазм, гипокорисма и др.)
Продолжение таблицы 2 1 Логичность
2
3 «Фигуры нарочито алогичной речи»: оксюморон, каламбурная зевгма, силлепсис, софизмы (подмена тезиса, софизм тождесловия, софизм ложного основания, софизм поспешного обобщения, Non seguitur – заключение не вытекает из посылок), палисиада, аподозис, апофазия, гистеропротерон, каламбурная антитеза, паралепсис и др. «Фигуры нарочитого неправдоподобия»: гипербола, литота, фигура реализации метафоры, адината, импоссибилия и др. «Фигуры нарочито двусмысленной речи» (адианоэта): антифразис, незамкнутая метафора, аллегория, параграмма, фонетическая аллюзия, дилогия и др.
Правдоподобие Однозначность Изобразительность (образность) Богатство
Дескрипция (фигура описания); приемы иконической номинации (фигурные тексты, графическая метафора, звукопись), стилизация, эпитеты, сравнения «Фигуры экспрессивной деривации»: метафора, сравнение, метонимия, фигуры интертекста (цитирование, аппликация, аллюзия, парафраз); игра на внутренней форме слова, скорнение, словообразовательная зевгма, этимологизация
236
Окончание таблицы 2 1 Ясность
Точность
Благозвучие
2 Фигуры контраста (аллеотета, парадиастола, антитеза и др.); конкретизация сказанного (иллюстративный пример), герменея (повтор сказанного в иной форме), сравнения, метафоры с целью сопоставления понятий, апелляция к внутренней форме слова, логическая перифраза, эпанод, метабазис; фигуры акцентирования; аллегория, хрия и др. Термины, номенклатурные наименования; логические определения; «фигуры уточнения мысли» (прозономазия, амплиация); парентеза и ее разновидности, анезис, афорисма, дистинкция, коррекция и др. Метаплазмы (синкопа, аферезис, апокопа, синереза, гаплология, протеза, эпентеза, парагога, диереза, диастола, метатеза, антистекон), звуковые повторы (аллитерация, ассонанс; анафора, подхват, кольцо и др.)
3 Ноэма, скотисон, схематисма, глоссирования, заумный язык, искусственная книжность, метономазия, остраннение, палиндромная речь, конкатенация, умолчание, синхизис и др.
Гипонимизация, гиперонимизация, фигура комического уточнения, мейозис, авторское мы, коммутация, анаценозис, сфрагида, прием оговорки
Баттология (столкновение слогов), хиатус (скопление гласных), рубленая речь (нагромождение односложных слов) и др.
Минимизация списка фигур, о которой пишет В. П. Москвин, произошла, на наш взгляд, не столько потому, что отсутствовала их общепринятая и непротиворечивая классификация, сколько потому, что из всего многочисленного списка фигур исследователи убирали явления, интуитивно признаваемые ими за феномены разной речевой природы. В. П. Москвин же вновь объединил разнопорядковые явления под общим понятием фигуры. Такое объединение, естественно, привело исследователя к отрицанию традиционного осмысления фигуры как некоего отклонения. Исследователь пишет, что фигуры ре237
чи (а у него это один из типов фигур) коррелируют с соответствующими речевыми ошибками – немотивированными отклонениями от нормы [там же: 15] – и что определение фигуры как отклонения от языковой и коммуникативной нормы «…открывает перспективу систематизации фигур по отношению к соответствующим нарушаемым нормам» [там же: 18]. Однако В. П. Москвин выбирает другой путь типологии фигур, хотя и считает, что «"универсальных" параметров описания, применимых ко всем фигурам, не существует; их поиск привлекателен (как всякая попытка найти простое решение сложной проблемы), однако абсолютно бесперспективен» [там же: 15-16]. Фигура (метабола, прием) определяется В. П. Москвиным как «акт использования языка в целях усиления выразительности речи или воздействия на адресата…» [там же: 332]. Тем самым основным критерием идентификации фигуры признается лишь ее функциональная составляющая – усиление выразительности речи, воздействие на адресата. Под такое широкое определение подводятся следующие четыре группы явлений, с нашей точки зрения, разнящихся по своей речевой природе. 1. Фигура слова (легкая фигура, словесная фигура, фигура, фигура речи155) – «акт использования (напр., повтор) или образования (напр., прономинация, поэтическая этимология) номинативной единицы в целях усиления выразительности речи» [там же: 334]. Исследователь считает, что восходящую к Квинтилиану классификацию фигур на фигуры мысли и фигуры слова «…нельзя признать логически безупречной, поскольку тропы представляют собой номинативные единицы и поэтому никак не могут являться фигурами (приемами)» [там же]. Отсюда понятия фигуры слова и фигуры мысли он рассматривает как синонимические. Однако рассуждение о том, могут ли тропы рассматриваться как разновидности фигур, зависит от понимания фигуры и приема, и поэтому приводимый В. П. Москвиным аргумент в критике античной классификации можно признать необоснованным. «Кроме того, – пишет исследователь далее, – многие Ф. с. имеют психологическую (см. психологический прием) и логическую (см. фигура мысли) основу, поэтому жесткое противо155
Именование всей сферы «изобразительно-выразительных средств языка» «фигурами речи» характерно для английской филологической традиции [Корольков 1973: 63]. 238
поставление Ф. с., психологических приемов и фигур мысли невозможно» [там же]. Если жесткое противопоставление этих приемов невозможно, то выделение их как разновидностей фигуры должно осуществляться на едином основании, причем, как нам кажется, прежде всего на структурном, поскольку функциональное основание (именно в общей классификации, а не в описании части подсистем) оказывается уязвимым для критики. Об этом свидетельствует опыт классификации фигур на интенционально-функциональной основе в истории русской риторики. Я. Мукаржовский справедливо писал: «Учение о функциях – это огромный комплекс, который только еще ожидает своей диалектической разработки» [Мукаржовский 1994: 321]. Фигуры слова В. П. Москвин подразделяет на следующие функциональные подтипы: а) стилистическая фигура, или стилистический прием (фигура речи, используемая в эстетической функции [Москвин 2006а: 317]); б) языковая игра, или игра слов (использование фигур речи с расчетом на комический эффект [там же: 373]); в) риторическая фигура, или риторический прием (фигура речи, используемая для воздействия на аудиторию, т.е. «как прием красноречия либо в полемических целях» [там же: 275]). Возникает вопрос, как отграничивать (и нужно ли это делать) фигуру речи в «декоративной (эстетической)» [там же: 328] функции (стилистическую фигуру) и фигуру речи как прием красноречия (риторическую фигуру). Тем более что в одной из предыдущих работ стилистический прием и фигура рассматривались исследователем как синонимы [Москвин 2000: 3]. 2. Фигура мысли (мысленная фигура, речемыслительная фигура, тяжелая фигура) – «определенная речемыслительная операция [а фигура слова нет? – Г. К.], в частности, логическая…»: противопоставление, уточнение, сравнение, оценка, определение, описание, приведение обоснования при аргументации, предвосхищение и опровержение аргументов противника, использование аргументов противника для подтверждения собственных выводов и т.п. [Москвин 2006а: 333-334]. 3. Психологический прием – «…способ воздействия на адресата, апеллирующий к его эмоциям, чувствам, воле, различным предубеждениям» [там же: 251] (речевые тактики, с нашей точки зрения). Психологическими приемами являются, по мнению исследователя, 239
аргумент к вере, аргумент к тщеславию, довод к кошельку, аргумент к палке, аргумент к авторитету, аргумент к традиции и т.п. «К числу психологических приемов, – пишет он, – следует отнести способы создания комического…» [там же: 253]. 4. Речевой акт как «риторически значимое высказывание» [там же: 332], или «фраза, используемая с определенной интенцией» [там же: 260]. Обратим внимание, что способы создания комического эффекта в этой классификации оказываются, с одной стороны, в группе психологических приемов, с другой – в группе фигур слова, где рассматривается игра слов. Фигуру, или прием, как процедуру (акт, действие) В. П. Москвин противопоставляет тропу как номинативной единице (языковому или речевому знаку). При этом под тропами в узком смысле он понимает «…семантически двуплановые наименования, используемые в эстетической функции; речь тропеическую следует понимать как "речь украшенную, переносную", а Т. – как "словесные украшения", для которых "характерны отказ от обычного значения слов и сопровождаемый некоторой приятностью переход речи к иносказанию"» [там же: 326]. Таким образом, данная дефиниция тропа как семантически двупланового образования не противоречит традиции. Между тем на страницах 328-329 исследователь пишет о неудачности определения тропов как «выражений и высказываний в переносном значении», «употребления слова в переносном, иносказательном значении», двуплановых экспрессивных средств, поскольку это «приводит к отождествлению Т. со средствами словесной образности». «…Принадлежность к разряду Т. должна определяться, – считает В. П. Москвин, – по трем критериям: 1) знаковость (Т. – это номинативная единица); 2) двуплановость содержания (семантический критерий); 3) декоративность (функциональный критерий, предполагающий ограничение сферы использования Т. художественной речью )» [там же: 327]. Поэтому, по его мнению, «при узком понимании к Т. можно отнести только метафору и метонимию в изобразительно-декоративной функции (см. художественная метафора, художественная метонимия)» [там же: 329]. Совершенно непонятно, почему использование тропов (даже при их осмыслении как декоративных средств) ограничивается лишь сферой художественной речи. В результате краткого аналитического обзора приведенных выше классификаций РП у нас складывается впечатление, что мно240
гие «постоянно сменяющие друг друга теории оказываются лишенными необходимого синтеза» [Федосюк 2003: 71]. А «поиски единых принципов, лежащих в основе построения тех или иных фигур, – как справедливо пишет И. В. Пекарская, – остаются актуальными и по сей день» [Пекарская 2000а: 159]. В этой связи обратимся к следующему опыту классификации.
2.5. Риторические приемы как область параонтологии (А. П. Сковородников) А. П. Сковородников справедливо отмечает отсутствие в современной отечественной филологии общепринятого подхода к классификации РП, отсутствие единого основания не только у разных классификаций, но иногда и в пределах одной классификации, а также неполноту охвата всех эмпирически наблюдаемых в современном дискурсе видов РП [Сковородников 2005в: 163]. Первоначально исследователь придерживался концепции РП156, в соответствии с которой выделяются следующие разновидности приемов: стилистические приемы (мотивированные отклонения от собственно языковых и/или речевых норм), приемы паралогические (мотивированные отклонения от законов и правил формальной логики), параэтологические (мотивированные отклонения от поведенческих норм, включая нормы речеповеденческие, или лингвоэтологические) и параонтологические (отклонения от стандартных представлений о бытии). Однако эта классификация, как и концепция в целом, по мнению исследователя, нуждается в уточнении, с чем нельзя не согласиться. Возможности такого уточнения, считает он, заложены в самой идее онтологичности нормы в широком смысле. Понятие онтологической нормы и, соответственно, мотивированного отклонения от этой нормы А. П. Сковородников распространяет на все типы РП, а не только на один из них. «Такая экстраполяция, – пишет он, – оправданна и делает еще более очевидным единство классификационного основания в предлагаемой типологии РП». Далее он подчеркивает «исключительную антропоцентричность категории РП» (что понятно, поскольку язык в целом ан156
Эта концепция отражена в публикациях: [Сковородников 2003а; Сковородников 2003б]. 241
тропоцентричен) и замечает: «…онтологическая типология норм, необходимая для конструирования соответствующей типологии РП, по-видимому, может быть построена только на основании той или иной фрагментации "наивной картины мира", осознанной на уровне "здравого смысла", поскольку многочисленные философские онтологические учения довольно противоречивы и слишком абстрактны для "наложения" их на тот или иной национальный дискурс…» [Сковородников 2005б: 104]. В результате в рамках содержательнотематической классификации выделяются следующие группы частных онтологий и соответствующие им типы РП. I. Антропосфера (онтология человека во всех его ипостасях) → антропосферные РП: 1) онтология телесности человека → парасоматические РП; 2) онтология психики человека (его мышления и эмоций) → парапсихические РП, в том числе паралогические; 3) онтология невербального поведения (неречевых поступков) → парапрагматические РП; 4) онтология вербального поведения (речевых поступков) → паралингвопрагматические РП; 5) онтология языка и/или речи → паралингвальные РП (тропы и фигуры); 6) онтология ситуаций (обстоятельств, положений, событий) → параситуативные РП; 7) онтология деятельности и ее результатов (онтология вещей в широком смысле) → параартефактные РП. II. Нонантропосфера (онтология природы, внеположенной человеку) → нонантропосферные РП: 1) онтология органической (живой) природы → паранатуровитальные РП: а) онтология животных → парафауносферные РП: – онтология морфологии животных → парафауноморфологические РП; – онтология поведения животных → парафауноэтологические РП; б) онтология растений → парафлоросферные РП: – онтология морфологии животных → парафлороморфологические РП; – онтология функционирования растений → парафлорофункциональные РП; 242
2) онтология неорганической (мертвой) природы → паранатуромортные РП: а) онтология планеты Земля и/или находящихся на ней объектов неживой природы → парагеосферные РП: парагеоструктурные РП, парагеофункциональные РП; б) онтология объектов Вселенной → паракосмосферные: паракосмоструктурные РП, паракосмофункциональные РП [Сковородников 2005б: 105-114] (см. схему 5). В отдельную группу исследователь выделяет манипуляции с категориями времени (парахронические РП, или хронотезия) и пространства (паратопосные РП, или топотезия), так как основанные на них РП имеют место и в области антропосферы, и в области нонантропосферы. Дальнейшая тематическая классификация представляется А. П. Сковородникову нецелесообразной, так как это неизбежно приведет к ее усложнению [там же: 114]. Обозначенная классификация РП в дальнейшем снова получила уточнение. Исследователем в рамках антропосферы были выделены следующие частные онтологии и типы РП: – онтология языка (языка как системы, узуса и нормы) → паралингвальные РП; – онтология речи как текста → паратекстуальные РП; – онтология речи как вербального поведения → паралингвопрагматические РП; – онтология невербального поведения → парапрагматические, или парадеонтические РП; – онтология ментальных (психических) состояний и процессов → параментальные РП; – онтология телесности → парасоматические РП; – онтология артефактов → параартефактные РП; – онтология стандартных ситуаций → параситуативные РП; – девиации пространственных и временных представлений → паратопосные и парахронические РП [Сковородников 2005в: 165168].
243
Схема 5 Классификация риторических приемов А. П. Сковородникова* Риторические приемы антропосферные
*
паракосмофункциональные
паракосмосферные
парагеофункциональные
парагеосферные
паракосмоструктурные
паранатуромортные
парагеоструктурные
парафлорофункциональные
парафлоросферные
парафауноэтологические
парафауносферные
парафлороморфологические
паранатуровитальные
парафауноморфологические
паралингвальные паратекстуальные парапрагматические паралингвопрагматические параситуативные параартефактные парасоматические параментальные
нонантропосферные
Данная схема отражает лишь одну сторону вопроса (содержательную). Вторая половина разработки вопроса (как, при помощи какого механизма продуцируются РП) в схеме не отражена. 244
РП, находящиеся по своему предметному содержанию за пределами антропосферы, по сравнению с антропосферными РП, малочастотны и, по мнению А. П. Сковородникова, не столь дифференцированы. «Более продуктивны, – пишет он, – РП, возникающие на стыке антропосферных и нонантропосферных онтологий. Это РП, организованные по принципу антропопатизма, т.е. такие, субъекты которых предметно принадлежат нонантропосфере (флора, фауна, неживая природа Земли, Космос), но наделены теми или иными чертами человека. Сюда прежде всего относятся разные виды олицетворения…» [там же: 169]. Как видим, повторное уточнение в классификации касается терминирования некоторых групп приемов и выделения в отдельные группы онтологии языка и онтологии речи (речи как текста и речи как вербального поведения). Кроме того, в рамках частных онтологий исследователем разграничиваются «отклонения реальные» (когда мы имеем дело с нормами собственно языковыми, речевыми, логическими) и «отклонения виртуальные» (когда мы имеем дело с нормами других частных онтологий) [там же: 165]. В уточненной исследователем концепции в рамках нонантропосферных РП соблюдается дихотомический принцип классификации (см. схему 5), в рамках же антропосферных приемов логичным было бы выделение онтологии телесности человека и онтологии его жизнедеятельности с дальнейшей дифференциацией последней. Возможны также уточнение и унификация предложенных наименований групп приемов (ср.: антропосферные РП, нонантропосферные РП и наименования их разновидностей с приставкой пара-). Идея распространения онтологической нормы на все типы РП представляется обоснованной, и, принимая ее, следует признать, что существование РП как осуществляемых в речи мотивированных отклонений от нормы является частью онтологии речевого поведения157. Следовательно, риторические приемы, с одной стороны, являются девиациями в области частных онтологий, а, с другой стороны, входят в общую онтологию как «"укрупненную" концептуальную картину мира» [там же: 164]. Первостепенное значение, по мне157
Именно в этом аспекте, как нам кажется, стоит понимать высказывания о «естественности» приемов, напр. С.-Ш. Дюмарсэ: «Нет ничего более естественного и обычного в речи людей, чем фигуры (Цит. по [Безменова 1991: 163]). 245
нию исследователя, сейчас приобретает разработка операциональной классификации РП, т.е. классификации приемов по конструктивным принципам их организации, которые обладают изоморфизмом, поскольку представлены в разных онтологических группах приемов [Сковородников 2005б: 116-117]. Представленная выше классификация РП, по мнению А. П. Сковородникова, «будучи онтологической по сути, то есть отвечающей на вопрос, какая онтологическая норма подвергается деконструкции, задает первичную, содержательную целостность системе РП. Однако для изучения системности РП не меньшее значение имеет развитие этой классификации в "технологическом" аспекте, с тем чтобы она давала ответ на вопрос, каковы механизмы отклонения от той или иной онтологической нормы, формирующие РП. С этой точки зрения, приобретает первостепенное значение понятие частного принципа отклонения от нормы [выделено автором цитируемого текста. – Г. К.] как основной особенности "устройства" РП, как механизма его действия » [Сковородников 2005г: 222]. А. П. Сковородников полагает, что в контексте проблемы системности РП «…важно обратить внимание на то, что РП разных частных онтологий могут быть соотносительны с точки зрения конструктивного принципа их организации», что свидетельствует об изоморфизме глубинных механизмов продуцирования РП [Сковородников 2005в: 172-173]. Изоморфизм РП разных частных онтологий со стороны конструктивных принципов их построения («операторов отклонения») он показывает на примере РП, организуемых принципом контаминации, принципом алогизма [там же: 173-178] и принципами увеличения и уменьшения [Сковородников 2007б]. Справедливость суждения об изоморфизме принципов подтверждают и наши наблюдения.
Глава 2 Опыт общей классификации риторических приемов на основе типов и операторов отклонений 1. К основаниям классификации риторических приемов. Принцип, тип и оператор отклонения: соотношение понятий «Как известно, успех всякой классификации зависит от того, какие признаки выбраны в качестве основ деления, на которых должна строиться эта классификация. Поэтому важно брать не случайные, а существенные признаки, не произвольные, а определяющие, от которых зависят другие признаки» [Вомперский 1970: 8283]. Поскольку РП представляют собой прагматически мотивированные отклонения от нормы или ее нейтрального варианта (в философском – онтологическом – осмыслении нормы), что было обосновано в первой части нашей работы, то и классификацию этих приемов можно осуществить на основе типов отклонений от онтологических норм. Cледует иметь в виду, что понятие онтологической нормы158 не тождественно понятию «объективная логика». «Объективная логика – необходимые закономерности, связи, отношения, присущие вещам, явлениям, процессам развития материального мира, существующие вне и независимо от людей, что иногда называют "логикой вещей" » [Кондаков 1975: 402]. Картина мира как создаваемый человеком образ объективной реальности в качестве одного из компонентов включает в себя представления о тех закономерностях объективного мира, которые существуют независимо от человека. Несмотря на вариативность и изменчивость, в картине мира «есть элементы общности, обеспечивающие взаимопонимание людей» [Роль… 1988: 4]. Другими словами, «картины мира у людей соизмеримы, потому что имеют общее ядро…» [там же: 28]. Совокупность
158
Наши знания об устройстве мира В. И. Болотов называет «нормами психического абсолюта» [Болотов 1985: 94]. 247
таких стандартных представлений о мироустройстве составляет общую картину мира, или онтологическую норму. Для нас важно, что «картина мира формирует тип отношения человека к миру – природе, другим людям, самому себе как члену этого мира, задает нормы поведения человека в мире, определяет его отношение к жизненному пространству» (курсив наш. – Г. К.) [там же: 26]. Кроме того, «концептуальной модели мира, – как пишет А. А. Уфимцева, – свойственна системность, упорядоченность» [там же: 138]. Системный характер картины мира отмечает и Е. С. Кубрякова: «Сумма значений и представлений о мире, упорядоченная в голове человека по самым разным основаниям и объединенная в известную модель мира, или картину мира, – организуется прежде всего в некую концептуальную систему. Субстрат такой системы – концепты, образы, представления, известные схемы действия и поведения и т.п., некие идеальные сущности, не всегда связанные напрямую с вербальным кодом» [там же: 141]. Поскольку норма (в широком понимании), как и возможность отклонений от нее, входит в общую картину, можно предположить ее системный характер. Здесь уместно сказать о том, что высказанное в одной из наших публикаций суждение о возможности классифицировать отклонения от «логики вещей» по типам концептов, как справедливо заметил А. П. Сковородников, ошибочно. Б. Рассел, рассуждая об истинности предложений типа Я встретил единорога (предложений, содержащих безденотатное обозначение), пишет: «Нигде, даже в мире теней, не существует ничего, что бы соответствовало этому имени». «Но такому имени, как единорог, – отмечает Е. С. Кубрякова, – соответствует концепт, создаваемый языковым описанием. Именно в этом качестве – как концепт – и существует нечто в нашем сознании, связываемое со словом единорог» [там же: 143]. Другими словами, не каждому концепту соответствует объект реальной действительности. Во-вторых, очевидно, существует такое множество концептов, которое не поддается счету. При классификации РП воспользуемся идеей о существовании операторов отклонений. Эта идея лежит в основе описания метабол исследователями группы µ в «Общей риторике». «Каждый вид фигуры, – пишут они, – отличается от другого своим оператором и/или своим операндом» [Дюбуа и др. 1986: 268]. Обратим внимание, что льежскими исследователями используется термин «операнд», который, однако, ими не дефинируется. 248
Термин «операнд», или «оперант», мы встретили в статье Э. Я. Мороховской. Операндом она называет «субстант или область приложения оператора». Им может служить как текст, так и текстовой фрагмент, но, по мнению исследователя, «…в любом случае операнд должен быть целостным в композиционно-текстовом аспекте – тематическим блоком» [Мороховская 1988: 36]. Последнее утверждение о целостности операнда объясняется объектом изучения исследователя – текстом в его деятельностном аспекте. Поскольку операнд как область применения оператора есть нормативная единица, которая подвергается трансформации, то этот термин в какой-то мере дублирует «нулевую ступень». Э. Я. Мороховская разграничивает оператор и операцию следующим образом: оператор – то, посредством чего осуществляются операции логического или риторического характера [там же: 35]159. С этой точки зрения, отклонение от нормы можно признать речемыслительной операцией160, а способы, при помощи которых она осуществляется, – операторами. Результатом операции является речевой факт, основанный на базовом принципе (отклонение от нормы) и частном принципе (операторе, или операциональном принципе), 159
При дальнейшем изложении термин «риторический оператор» используется исследователем в ином понимании: в соответствии с двумя типами операций (субстанциональных и реляционных) среди риторических операторов выделяются маркеры (показатели экспрессивности текстаоперанда; элементы, с помощью которых образуются маркированные формы текста в оппозиции: экспрессивная / неэкспрессивная) и реляторы (выполняют функцию средства, с помощью которого осуществляются риторические операции по изменению внутренней упорядоченности текстового материала, привлекают внимание к тексту – напр.: Темой моего доклада… Давайте рассмотрим… Начнем с…) [Мороховская 1988: 37-38]. Идея о существовании маркеров отклонений, высказанная в «Общей риторике» Ж. Дюбуа и др. и поддержанная Э. Я. Мороховской, несомненно, продуктивна и должна получить дальнейшее развитие. 160 И. В. Пекарская использует понятие «операции» применительно к «способам реализации того или иного принципа». В частности, принцип контаминации реализуется, по ее мнению, тремя способами: синкретизм – последовательное соединение единиц, аппликация – наложение с общим членом и/или вставкой, амальгамация – «соскальзывание» с одной конструкции на другую [Пекарская 1999: 22; Пекарская 2000а: 189; Пекарская, Амзаракова 2003: 81]. 249
его реализующем. Реализация общего принципа отклонения от той или иной нормы или ее нейтрального варианта дает тип отклонения, который осуществляется при помощи операторов. Классификация, построенная на основе типов отклонений и операторов отклонений есть классификация на основе деятельностного подхода (с позиций «операциональной лингвистики» – [там же: 35]). Мы согласны с исследователями группы µ: «Полное описание риторической фигуры обязательно должно включать описание соответствующего отклонения (формирующих операций отклонения), ее маркера, ее инварианта и ее этоса» [Дюбуа и др. 1986: 85]. Однако следует признать, что в рамках одной работы полное описание каждой фигуры (в широком понимании этого термина) вряд ли возможно. Преимущество нашего описания (по сравнению с описанием группы µ) видим в том, что мы исходим из оппозиции «норма – отклонение от нормы», а не «нулевая ступень – отклонение от нулевой ступени». По мнению Ж. Дюбуа и др., норма – с одной стороны, предписывает, как «должно быть», с другой – основывается на «обычном положении вещей, на наиболее часто встречающихся случаях» [там же: 50]. Норма, считают исследователи группы µ, часто «неуловима», поэтому они используют понятие «"нулевой ступени" литературности», служащее «практическим определением нормы» [там же: 51]. Понятие нормы считаем более предпочтительным по сравнению с понятием «нулевой ступени», так как: 1) норма определима (поскольку зафиксирована в академической грамматике, словарях и справочниках, имеет среднестатистические показатели), в отличие от «нулевой ступени», которая, как отмечают авторы «Общей риторики», не всегда четко прослеживается161; 2) норма тесно связана с процессом употребления языка, с речевой деятельностью человека, а удачное, значимое использование РП есть свидетельство, если 161
В некоторых случаях сведение отклонения к «нулевой ступени» невозможно. Это происходит, по наблюдениям исследователей группы µ, например, тогда, когда «…текст превращается в набор звуков, которым невозможно приписать какой бы то ни было смысл, хотя сами эти звуки, безусловно, принадлежат к членораздельной речи» [Дюбуа и др. 1986: 111]. «Нулевая ступень» в их понимании – языковая единица, которая подвергается преобразованию. Очевидно, термин «нулевая ступень» можно сохранить за нейтральным вариантом нормы. 250
можно так выразиться, креативности речемыслительной деятельности адресанта162; «нулевая ступень находится вне обычного употребления языка», это некий «предел», «это то, чего ожидает в данной позиции читатель» [там же: 71]. Опыт преподавания риторики подтверждает, что «…теория отклонения оправдывает себя с практической точки зрения, поскольку она позволяет как-то объяснить имеющиеся факторы» [точнее – факты. – Г. К.] [там же: 52]. При описании РП удачно «работает» античная схема, в частности, выделение частных операций (операторов) убавления, прибавления, замещения и перестановки, лежащих в основе той или иной группы приемов. В этой схеме, по мнению В. П. Москвина, количественный параметр (протяженность) противопоставляется позиционному. При этом сам исследователь не отказывается от применения таких формальных критериев для описания различных групп метаплазмов, но при этом оговаривает, что для классификации других приемов, где важна смысловая сторона, применение этих критериев нецелесообразно [Москвин 2006б: 383-384], с чем мы не можем согласиться. Выделяемые со времен античности операторы описаны применительно к метаплазмам учеными группы µ, выделяющими субстанциональные операции и операции реляционные: «Первые операции меняют субстанцию единиц, к которым они применяются, вторые же меняют только позиционное отношение между этими единицами» [Дюбуа и др. 1986: 85-86]. К субстанциональным операциям они относят сокращение (полное или частичное), добавление (простое и итеративное – «если добавляются только значимые единицы нулевой ступени» [там же: 87]), сокращение с добавлением (частичное, полное и отрицательное) (то же, что замещение); к реляционным – перестановку (инвертированную и обычную).
162
М. Ягелло выделяет два типа креативности: 1) рекурсивность как составляющее языковой компетенции, способность формулировать и понимать бесконечное число фраз; 2) креативность речевого действия, которое актуализирует языковую компетенцию конкретного носителя языка [Ягелло 2003: 113-114]. Способность к индивидуальному речевому употреблению она называет также «креативностью речевого владения» [там же: 142]. 251
Оператор перестановки, полагаем, можно рассматривать как разновидность переноса (перемещения), в данном случае синтагматического переноса двух компонентов. Кроме названных операторов можно выделить еще один – расчленение. Этот оператор нельзя отнести только к субстанциональным или только к реляционным, поскольку он может менять и субстанцию единицы, и позиционные отношения между единицами. Так, в результате парцелляции, которая основана на расчленении единой синтаксической структуры высказывания, меняется не только субстанция единицы (синтаксическая структура воплощается не в одной, а в нескольких интонационно-смысловых единицах, или фразах), но и отношение между образуемыми компонентами (изменяется тема-рематическое членение: создается новый (дополнительный) рематический центр или несколько рематических центров), напр.: Глупая, грубая, вульгарная, толстая Проня Прокоповна, простите, любит. Всем сердцем (КП. 18.12.1997); Что за страсть к пустой болтовне! К пересудам! Сплетням!.. (Б. Рахманин. Леденцы). Таким образом, можно выделить пять основных операторов: – убавление (уменьшение, сокращение); – прибавление (увеличение, добавление, присоединение); – перенос (перемещение, транспозиция); – замещение (замена, подмена); – расчленение (разделение, дробление). Первые три оператора имеют разновидности. Убавление может выступать как усечение (сокращение элемента за счет отсечения его компонента(ов)) и как пропуск, или опущение (незамещение срединной позиции в синтагматической цепи), напр.: И Леля стала тонуть. Казалось, будто кто-то тянет ее за ноги и не дает вырваться. Течение быстрое, вода холодная, а Леля слабая женщина, слабая, сла… Очнулась на берегу (Э. Русаков) – апокопа, продуцируемая на основе оператора усечения и состоящая в умышленном недоговаривании конечной части слова (в данном случае – с целью отображения стремительности происходящего); Тебе дают песочные часы и белую трубку с лекарственным вкусом, ее надо сначала повернуть скосом вправо – и в рот (Ю. Тамкович-Лалуа. Разговоры еле слышны) – незамещение синтаксической позиции (эллипсис) сказуемого, продуцируемый при помощи оператора пропуска. 252
Оператор прибавления выступает как растяжение или совмещение. Типами растяжения (увеличения свойств, признаков элемента, например, размера, длины) являются: 1) удлинение (увеличение в протяженности) элемента, которое наблюдаем в следующем случае: Он вообще бойкий братик. Может такое натворить, тако-о-о-е, что даже трудно себе представить (М. Дружинина. Супержелезяка) – увеличение длительности звука, что иконически передает эмоциональную оценку автора; 2) развертывание (увеличение числа «звеньев») как оператор, лежащий в основе развернутых тропов или, например, приема излишней детализации: – Дайте мне почитать детектив, но чтобы он был понастоящему захватывающим. – Вот это то, что вам нужно. Здесь только в самом конце узнаешь, что убийца – дворецкий (Всем… 09.09.2005) – излишняя детализация в ответе как отклонение от информационно-речевой нормы. Совмещение, или сопряжение (сосуществование в контексте), существует в двух разновидностях: 1) повтор как совмещение однотипных или одинаковых единиц, напр.: Но уже помимо нее, по своей воле другая какая-то скрипка взвилась выше, выше, выше и замирающей болью, затиснутым в зубы стоном оборвалась в поднебесье, у той одинокой остроиглой звезды… (В. Астафьев. Последний поклон) – геминация как прием, продуцируемый многократным контактным повторением слова (или словосочетания, предложения); 2) совмещение разных единиц – контактное или неконтактное: а) контаминация в широком смысле как контактное совмещение двух или более элементов, близких друг другу в каком-либо отношении (вставка; наложение, или контаминация в узком смысле; сращение, или соединение), напр.: СкандаЛиза (название рассказа. ЛГ. 2005. № 34-35) – контактное совмещение, или контаминация (в широком смысле) способом наложения: скандал + Лиза; Обнаружен мальчик, воспитанный черепахами. Отличается от обычных мальчиков чуть более толстой скорлупой и желанием закопаться в песок (ТД. 2001. № 2) – совмещение признаков человека и животного, их контаминация; 253
б) аттракция как неконтактное совмещение (сближение, совместная встречаемость) в узком контексте элементов, однородных в каком-либо отношении, напр.: У странúц есть странность / опасаться стрáнниц / С синими очами… (Е. Пестерева) – неконтактное совмещение в узком контексте омофонов (омонимический каламбур). Оператор переноса (перемещение элемента или элементов на другое место) может быть двух типов: синтагматический перенос как перенос, основанный на линейной соотнесенности элементов, и перенос парадигматический (ассоциативный), связанный с отношением противопоставления / отождествления элементов в системе. Типами синтагматического переноса являются: перестановка (мена элементов местами) и смещение (перемещение элемента в другое место). Напр.: Объяснить ей ни про лицензии, ни про налоги никто не мог (Л. Улицкая. Веселые похороны) – инверсия (ср.: Никто не мог объяснить ей ни про лицензии, ни про налоги), продуцируемая при помощи оператора перестановки; Дней канитель. Я посреди / пути стою: мне ровно сорок. / А впереди – дремучий морок. / И бомба тикает в груди (Э. Крылова) – не только инверсия, но и прием синтаксического переноса, основанный на смещении части фразы, ее перенесении с одной строки на другую. Парадигматический перенос может быть представлен семантическим переносом (семантической транспозицией) и конверсией (переходом элемента из одной категории в другую). В качестве иллюстрации действия этих операторов приведем такие высказывания: И вот грохнуло. Раскатилось канонадой. Темнота разлетелась. Стало видно, как днем (И. Н. Бойко. Все живут…) – метафора, ведущим операциональным принципом продуцирования которой является семантическая транспозиция по сходству; Произносились печальные речи, разные люди говорили много хорошего о трагически погибшем Денисе… (Э. Русаков. Во имя отца и сына) – использование прилагательного в функции существительного; Рязанский НЭП: Ненавидим Эти Прилавки (КП. 02.04.1998) – прием, образованный при помощи реаббревиации, который можно именовать нотариконом (термин В. П. Москвина [Москвин 2000: 189]). Таким образом, имеется определенная иерархия операторов отклонения от той или иной нормы, которая может быть представлена схематически (см. схему 6). 254
Существуют приемы, построенные на основе двух и более принципов, – синкретичные приемы. Синкретизм операциональных принципов построения приема, осуществляющийся в рамках группы отклонений от нормы одного типа, может быть назван внутритиповым синкретизмом. Иллюстрацией внутритипового синретизма операторов в построении приема может служить прием антиципации, напр.: А кто ж ее не любит – жизнь-то? (КП, 24 сент. 1999 г.). – В основе – отклонение от синтаксической нормы, осуществляемое за счет оператора расчленения (разделение структуры предложения на две части) и оператора повтора синтаксической позиции (грамматического плеоназма). Синкретизм операторов, осуществляющийся на основе отклонений от норм разного типа, можно назвать межтиповым синкретизмом. Синкретизм такого рода представлен в приеме, который Е. А. Земская называет «каскадом неузуальных слов» (случаи многочисленного сцепления окказионализмов в тексте) [Земская 2000: 129], напр.: Аптека города Урюпинска предлагает широкий выбор эффективных лекарственных средств от падучей, вставучей и идучей дальше (Анекдоты от Михалыча. М., 2005). – Прием иллюстрирует отклонение от собственно-языковой нормы (прием окказионального словообразования) и речевой нормы нерегулярности текстовой структуры. Или другой пример: Свет по улицам медленно льется. Летний полдень ленив и медов. И земля поклоняется Солнцу Золотыми телами плодов (Д. Уланова. Зарисовка). Образование краткой формы от относительного прилагательного, которое в норме такой формы не имеет; данное прилагательное в значении ‘тягучий’ используется как качественное: изменение лексического значения повлекло за собой изменение грамматической характеристики слова (транспозиция слова из одного разряда в другой) и образование краткой его формы. Тем самым перед нами синкретичный случай – отклонение от лексической и грамматической нормы одновременно. Поскольку слово используется в окказиональном значении, то образование формы медов есть показатель образования нового слова медовый в значении ‘тягучий’ (то есть факт словообразования163). 163
При разграничении словоизменения и словообразования выдвигается критерий предметной (референтной) соотнесенности: «Если разл. формы С. 255
Схема 6 Типы операторов отклонения
пропуск
убавление усечение
парадигматический: – семантический перенос – конверсия
перенос
синтагматический: – перестановка – смещение
замещение
расчленение
Операторы отклонения прибавление
растяжение (развертывание и удлинение) совмещение однотипных или одинаковых единиц (повтор)
совмещение
совмещение разных единиц
аттракци я
вставка наложение сращение
контаминация
(слова. – Г. К.) могут указывать на тот же объект (референт), то они образуют одно С. (словоизменение). Если же референтная отнесенность изменяется, данные формы принадлежат разным С. (словообразование)» [БЭС 1998: 456]. 256
Синкретизм операциональных принципов, продуцирующих тот или иной прием, может быть различным – горизонтальным (когда операторы реализуются последовательно друг за другом) и вертикальным (операторы действуют одновременно)164. Примером динамического синкретизма может служить метафора (см. о ней ниже). Синкретичные приемы, образуемые на основе горизонтального синкретизма, в общей классификации должны занимать место по основному (доминантному) оператору. Синкретичные приемы, образуемые на основе вертикального синкретизма, обозначаются нами далее в отдельных параграфах в рамках описаний отклонений от нормы того или иного типа. Примером вертикального синкретизма может служить прием хиазма, продуцируемый при помощи повтора и перестановки: Шесть машин стоят подряд, / Все стоят и все гудят. / Все гудят и все стоят – / Ни вперед и ни назад (Г. Сапгир. Отчего и почему); Жить с человеком, которого любишь, так же трудно, как любить человека, с которым живешь (Телесемь. 29.09.2004). При классификации РП нельзя игнорировать проблему их различного (порой прямо противоположного) понимания не только у разных исследователей, но и в разные исторические эпохи. Разночтения такого рода свидетельствуют об отсутствии преемственности в осмыслении (в отличие от критериев классификации) приемов, а также о том, что в современной отечественной риторике, во многом ориентированной на западные источники, произошла «перестройка» терминологического аппарата: наблюдается иное, нежели ранее, понимание терминов и их соотношение. Это не всегда находит отражение в работах, посвященных описанию тех или иных приемов. Чтобы показать терминологическую путаницу, которая имеется в риторике, нам пришлось бы углубиться в проблему системности элокутивной терминологии, а это уже может составить предмет отдельного науч164
Возможно, горизонтальный синкретизм может быть также назван динамическим, а вертикальный – статическим. «Традиционно выделяемому статическому синкретизму, при котором одна и та же единица обладает признаками качественно различных, обычно несовместимых категорий одновременно, следует противопоставить динамический синкретизм, характеризующийся тем, что языковое построение в процессе его реализации переходит от одной категории к другой, качественно отличной от первоначальной, заменяя свои признаки на противоположные» [Чесноков 2007: 43]. 257
ного исследования. Поэтому в процессе изложения мы будем использовать тот термин, который считаем традиционным или наиболее употребительным, существование же других точек зрения на сущность того или иного приема будем давать в виде ссылок на литературу, где они представлены. Считаем необходимым и своевременным издание такого научного труда, в котором была бы показана эволюция элокутивных терминов, что в значительной степени помогло бы исследователям в дальнейшем изучении выразительного потенциала русского языка / речи и способствовало бы формированию научного кругозора. Заметим также, что не все приемы изучены в равной мере, поэтому более или менее подробно мы будем останавливаться только на тех, по которым существуют дискуссионные точки зрения. Начнем с описания РП, являющихся мотивированными отклонениями от собственно языковой нормы или ее нейтрального варианта.
2. Риторические приемы, основанные на отклонении от собственно языковой нормы или ее нейтрального варианта Прагматически мотивированные отклонения от собственно языковой нормы А. П. Сковородников рассматривает как разновидность паралингвальных РП [Сковородников 2005в: 165]165. Один из возможных аспектов классификации этих РП – учет их реализации на разных уровнях структуры языка. При создании общей классификации уровневый параметр, по словам В. П. Москвина, 165
Есть и другие родовые терминологические обозначения отклонений от собственно языковой нормы. Так, целенаправленные нарушения языковой нормы как совокупности наиболее устойчивых традиционных реализаций системы И. В. Пекарская именует «фигурой языка», «языковой фигурой», в отличие от «речевой фигуры» («фигуры речи»), отступающей от речевого узуса (= речевой нормы) как совокупности навыков, принятых в данном обществе, по употреблению языковых единиц. Отступления от речевого узуса она также называет окказионализмом. Поэтому «речевая фигура», по ее мнению, является «окказионализмом, отступающим от речевого узуса» [Пекарская 2000а: 152-153]. 258
«оказывается иррелевантным» [Москвин 2006а: 11], но при описании отдельных групп приемов его успешно используют (см., напр., [Пекарская 2000б]). Уровневый параметр (иерархичность отношений в системе языка) учитывается исследователями также при типологии языковых норм. Поэтому отклонения от собственно языковых норм (или их нейтральных вариантов) могут быть классифицированы в соответствии с частично отражающей структуру языка типологией нормы.
2.1. Риторические отклонения от фонетической нормы К фонетическим нормам относят нормы орфоэпические, интонационные и акцентологические [КРР 2003: 368]. Следовательно, можно выделить три типа отклонений от фонетических норм166: отклонения орфоэпические, отклонения интонационные и отклонения акцентологические. Рассмотрим каждый из этих типов. 2.1.1. Риторические отклонения от орфоэпической нормы Следует иметь в виду, что не всякое отклонение от орфоэпических норм нарушает законы фонологической системы. Так, «если носитель русского языка произносит не [в∧дá], [д∧мá], [з,иeмл′я], [н,иe]сý, а [вэдá], [дэмá], [з,е]мл′я, [н,е]сý167 или [въдá], [дъмá], [з,а]мл′я, [н,а]сý и т.п., то он не нарушает законов русской фонологической системы – принцип позиционной мены ударных и безударных гласных сохраняется полностью; однако он нарушает нормы литературного произношения, установленные общественной языковой практикой [СРЯ 1999: 149-150]. Поэтому разграничивают два аспекта произносительной нормы: орфоэпию и орфофонию. Если принимать теорию фонемы Ленинградской фонологической школы, орфоэпия – «правила произношения оттенков (аллофонов) фонем», а 166
Как отмечает В. П. Вомперский, фонетические и интонационные приемы включались в понятие украшенных средств Прокоповичем [Вомперский 1970: 86]. 167 [з,е]мл′я, [н,е]сý – именно в таком варианте дана транскрипция в процитированном источнике. 259
орфофония – «правила, определяющие нормативный фонемный состав слов» [Вербицкая 1993: 16]. Если же принимать теорию Московской фонологической школы, то правила орфоэпии соотносятся с основным видом фонемы или с вариантами, а правила орфофонии относятся к вариациям фонем. В самом общем виде, как отмечает Л. А. Вербицкая, представителей этих школ различает не принципиальный подход к явлениям орфофонии и орфоэпии, а решение конкретных вопросов определения фонемного состава слов. Фонемный состав слов определяет орфоэпия [там же: 18]. Поскольку язык мы можем наблюдать лишь в действии, в его функционировании, стилистически значимые отклонения от орфоэпических норм рассматриваются исследователями как «звуковые приемы». Процесс искажения привычной фонетической формы слова называют «словопреобразованием» [Арнольд 2002: 169]. Стилистические приемы, реализуемые на фонетическом уровне, А. И. Полторацкий именует «"сегментными" звуковыми приемами» [Полторацкий 1975: 111]. В античности звуковые изменения слова именовались претерпеваниями [Античные теории… 1996: 122]. Как мы уже говорили в предыдущем параграфе, термин «претерпевания»168 Ю. В. Рождественский предлагает в современной риторике сохранить, причем (и это важно) понимать под ним такие фонетические изменения слова, которые не связаны с переменой его значения [Рождественский 1997: 246]. 168
Существует и более широкое понимание «претерпеваний слова»: «Виды претерпеваний слова – способы изменения слова с целью добавления нового смысла или стилистической окраски», «прием создания нового смысла слова с опорой на уже существующее значение». Напр.: фраза Спасите наши души! в результате претерпевания может звучать как Спасите наши уши! (если речь идет о музыке), Спасите наши туши! (если речь идет о продаже мяса) [Аннушкин 2004: 132]. С нашей точки зрения, этот пример иллюстрирует прием трансформации устойчивого сочетания за счет замены одного из его компонентов. Тем самым широкое понимание «претерпеваний слова» не всегда позволяет четко отграничивать приемы звукового изменения слова от смежных речевых явлений. В европейской риторике, в частности, у С.-Ш. Дюмарсэ, А. Барона изменения в буквах или слогах (а значит и в звучании) объединяются в группу фигур дикции, у Фр. де Коссада – в класс грамматических фигур [Безменова 1991: 163, 194, 198]. 260
«Приемы трансформации звукового (и, соответственно, графического) облика слова» называют также метаплазмами [Москвин 2006б: 376]. Этот термин отечественные лингвисты используют вслед за представителями Льежской школы риторики (Ж. Дюбуа, А. Тринон и др.). «Метаплазм – это операция, которая меняет звуковую или графическую сторону сообщения, то есть форму выражения в ее звуковом или графическом обличье» [Дюбуа и др. 1986: 92]. Метаплазмы они рассматривают как «область фигур, изменяющих звуковой или графический облик слова или единиц более низкого уровня, чем слово…» [там же: 66]. Однако под понятие метаплазма названные исследователи подводят также звуковые изменения, происходящие как в пределах одной лексической единицы, так и в пределах двух и более лексических единиц, составляющих фонетическое слово. Поэтому метаплазмы в понимании льежской школы риторики – не только отклонения, связанные с «артикуляционной оболочкой слова», но и явление «синонимии слов, не имеющих общей морфологической основы» [там же: 107]. К метаплазмам авторы «Общей риторики» относят аллитерацию, ассонанс («фонемные фигуры»), «слоговые фигуры» (верлан как перестановку слогов), архаизм, неологизм, создание новых слов, заимствование, анаграмму, палиндром, каламбур и некоторые другие приемы. Н. А. Безменова в «Комментарии II» к «Общей риторике» пишет, что понятие метаплазма было введено еще в риторике А. Барона 1853 года, а его использование группой µ соответствует не только классической античной традиции риторики, но и французскому национальному наследию [там же: 371]. В Россию учение о метаплазме, как считает Е. В. Маркасова, было перенесено в начале ХVII в. Различие между фигурой, тропом и метаплазмом усматривали в том, что метаплазмы используются только «по необходимости», а тропы и фигуры применяются «для украшения» речи [Маркасова 1999: 55]. Риторическими отклонениями от орфоэпической нормы («звуковыми приемами», поскольку отклонение осуществляется в речи, а значит, можно говорить только о звуках, или аллофонах) вслед за Ю. В. Рождественским называем такое искажение звукового облика слова, которое не влечет за собой изменение его денотативного лексического значения. Описание этих приемов, как и любых других, целесообразно осуществлять на основе операторов (операциональных принципов их продуцирования). 261
Отклонения с операторами прибавления Весьма продуктивным в орфоэпических отклонениях оказывается оператор контаминации, являющийся разновидностью оператора прибавления. Этот оператор реализуется при помощи наложения, вставки и сращения. Очевидно, оператор наложения лежит в основе синерéзы, или синерéзиса (как синонимы к ним даны синалéфа169, силлепсис, стяжение в [Москвин 2006б: 379]) – «устранение одного из смежных гласных»: Шаг держи революцьонный! (А. Блок) [там же], слияние двух гласных в восходящий дифтонг: И чуб касался чудной чолки / И губы – фьялок (Б. Л. Пастернак) [БЭС 998: 592], искусственное сокращение числа слогов: матерьяльчик для серьяльчика [Стилистика… 2004: 438], Так миньятюрна, так нежна, мягка / Казалась эта ножка (М. Лермонтов) [Пекарская 2000б: 97]. Слияние гласных обозначается также термином сúнезис170 [Дюбуа и др. 1986: 100] и синезезис [Полторацкий 1975: 112]. Разновидностью синерезы В. П. Москвин считает синицéзу – устранение одного из одинаковых контактирующих гласных звуков: В белом венчике из роз – / Впереди Исус Христос (А. Блок) [Москвин 2006б: 379], слияние их в долгий слог [Квятковский 1998: 312]. Похожим приемом (в смысле «исчезновения» одного из одинаковых элементов) является гаплолóгия, или эписиналефа, но этот прием рассматривается не как контаминация, а как пропуск одного из одинаковых контактирующих слогов: знаменосец вместо знаменоносец [Москвин 2006б: 380] – и поэтому является типом «звукового эллипсиса». Заметим, что термины, служащие наименованиями фонетических приемов, используются в лингвистике преимущественно для обозначения особых фонетических процессов в слове (см., напр., дефиниции аферезиса, синкопы, синерезы, апокопы в «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ахмановой). Поэтому следует огово169
Ср.: синалэфа – столкновение гласных в [Античные теории… 1996:
253]. 170
Ср.: синезис (смысловое согласование, согласование по смыслу) – «…предпочтение, отдаваемое смысловому соотношению объединяемых частей высказывания в ущерб формальному их уподоблению…»: Вокруг стоит стража, на плечах топорики держат; Большинство зрителей ушли со спектакля; Пять студентов идут [Ахманова 2004: 405]. 262
рить, что аферезис, синкопа, синереза, апокопа и др. явления являются РП только в том случае, если используются с особой целью. Ср. следующие иллюстрации сокращений слова, приводимые В. П. Москвиным и являющиеся нормой для разговорной речи, где они, следовательно, не могут трактоваться как прием: прово[лк]а < прово[лок]а, теченье < течение (синкопа); чтоб < чтобы (апокопа). В таких случаях происходит редуцирование звука, что характерно, как известно, для сниженного (неполного) стиля произношения, но может использоваться как прием с целью речевой характеристики персонажа в художественном произведении. Этот факт отмечается в кн. [Стилистика… 2004: 269]. На операторе вставки строятся такие приемы, как протеза, эпентеза и парагога (приемы этой группы В. П. Москвин называет «метаплазмами увеличения» [Москвин 2006б: 380]). Причем понимаются названные приемы по-разному. В соответствии с узким подходом, эти приемы основаны на вставке в слово звука или слога (протéза – в начале слова, эпентéза171 – в середину, парагóга – в конце172) [там же; Горте 2007: 102, 127, 171]. При широком же понимании эти приемы рассматриваются как основанные на вставке не только звука, но и слога [Античные теории… 1996: 123], морфемы [Дюбуа и др. 1986: 101-102], любых «лишних элементов» [Клюев 1999: 232-233]. Увеличение протяженности слова за счет прибавления к нему звука или слога называют также «морфонологическим приемом» [Полторацкий 1975: 115]. – Не буду приводить другие «тяпы» и «ляпы» данного учебника – менее очевидные, но от этого не менее вредные для неготового к подобным ловушкам ученика-неофита, все еще доверяющего громогласным обещаниям дутых авторитетов и просто мелко171
Синоним эпентезы как добавление фонем к середине слова – инфиксация [Дюбуа и др. 1986: 102]. Ср. иные понимания эпентезы как приема: эпентеза – прибавление звуков в конце слова: "лиса – лисица" [Рождественский 1997: 246] и эпентеза (вставка, параптиксис) – прибавление гласного в начале слова [Полторацкий 1975: 116]. У О. С. Ахмановой эпентеза (правда, не как прием) не привязана к вставке звука в конкретное место слова: «Возникновение в слове под влиянием определенных морфонологических или фонетических условий звука, отсутствовавшего в первоначальной форме этого слова…» [Ахманова 2004: 526]. 172 У А. Барона «приращения» букв в конце слов называется парагезой [Безменова 1991: 194]. 263
травчатых шустрых вьюношей) в возрасте от восемнадцати до восьмидесяти)…; Однако же, поворчав и похихикав для порядка за спиной начальницы (а иногда и вместе с ней), мы более или менее бодро приступили к «понаписанию» приказанного компьютерного продукта (Н. Замяткин. Вас невозможно научить иностранному языку) – протеза; – Так вот, мужики! В нашем колхозе хавос! (Р. Белов. Астафьевские анекдоты); Учитывая вышесказанное, что у них, у приматов, эмоциональное состояние выражается богатым набором звуков и жестов, где гарантия, что женщины переводят более или менее близко к оригиналу энтот самый набор… (А. Пынзару. Пингмалион продолжается); – Ну дык… – я начал придуриваться, подражая речи матери. – Ндравится (Р. Солнцев. Диалоги с Платоновой) – эпентеза. Разновидностью эпентезы, по мнению И. В. Пекарской, можно считать анаптúксис – возникновение гласного звука между двумя согласными под влиянием определенных фонетических процессов: новогородской крови [Пекарская 2006в: 39]. Схожий прием описывает В. П. Москвин. Среди фигур удлинения слова он выделяет диерезу173 (диересу), или распущение («удлинение слова за счет добавления слоговых звуков»): к уютной церковушке [Москвин 2006б: 474], Небо в Реине дрожало… (В. А. Жуковский) [там же: 381]. Увеличению количества слогов способствует «прояснение бывших редуцированных»: Что Агасфер до пишущей машинки дошел и тычет пальцем в IВМ, как бы в грудину впалую бием (Д. Бобрецов) [Стилистика… 2004: 438] и «произнесение неслоговой группы звуков (без гласного), как слога» (джентльмен, театр) [Квятковский 1998: 117]. Как и предыдущие явления, протеза, эпентеза, анаптиксис, парагога являются РП только в том случае, если они употребляются с особым заданием, например, с целью речевой характеристики персонажа в художественном произведении. И. В. Пекарская справедливо 173
В «Словаре лингвистических терминов» в основе дефиниции термина «диереза» («выкидка») – прямо противоположный процесс: «утрата словом (морфемой, словосочетанием) звука или слога в результате ассимиляции или диссимиляции»: [п∧jéскъ] < поездка, знаменосец < знаменоносец [Ахманова 2004: 93]. Удлинение краткого гласного именуется эктазисом [Дюбуа и др. 1986: 102]. 264
пишет, что синицеза, синереза, эпентеза и анаптиксис служат для облегчения произношения и не являются «специальными изобразительными средствами», однако на уровне определенного контекста могут становиться экспрессивными средствами (приемами) [Пекарская 2000б: 38-39]. На растяжении, или удлинении (увеличении длительности), звуков при эмфатическом ударении основан прием диáстолы [Москвин 2006б: 376]174, напр.: – Я почти все делаю в охотку. С радостью. С удово-о-ольствием!.. (АиФ. 1999. № 17); Он вообще бойкий братик. Может такое натворить, тако-о-о-е, что даже трудно себе представить (М. Дружинина. Супержелезяка); – Я моего братца зову Кукусинька. За то, что он такой Кукуууууусинька. Где же наш Кукууууусинька? (смеется) (из разг. речи); – А старшой их подходит ко мне и говорит тихо-тихо так: ты, говорит, между прочим, нахал. На-аглый ты, говорит, хоть и с бородою (Я. Шипов. Чужие воспоминания). Увеличение длительности звука называют также эмфатической долготой [Полторацкий 1975: 110]. Отклонения с операторами убавления На убавлении (сокращении) строятся разные виды «звукового эллипсиса», или «метаплазмы сокращения» – [Москвин 2006а: 163; Москвин 2006б: 386]. 1. Аферéзис, или аферéза – прием, основанный на опущении в слове начальных звуков [там же: 377] или слога [Горте 2007: 49], морфемы [Стилистика... 2004: 438], напр.: Русь, певучая в месяце Ай… (В. Хлебников) – ср.: май. 2. Синкóпа (или систола [Москвин 2006б: 378]175) – прием, основанный на пропуске в середине слова звука или сочетания звуков [Клюев 1999: 230-231; Москвин 2006б: 475], преимущественно 174
Иное понимание диастолы: «В античном стихе замена долгого слога кратким в сильной части стопы (в тезисе); прием, противоположный систоле» [Квятковский 1998: 115]. 175 Иное понимание «систолы» в [Дюбуа и др. 1986: 100; Квятковский 1998: 314]. 265
гласного звука [Квятковский 1998: 312]. Выпадение звука или группы звуков внутри слова называют также эктлипсисом [Ахманова 2004: 406]. В качестве наименования стилистического приема, основанного на пропуске гласного в середине слова, этот термин используется в [Полторацкий 1975: 112]. Примеры синкопы: – Что, Фрол Федорыч, покурим? – сказал и подмигнул ему Федор-маленький (Ю. Аракчеев. Подкидыш); …Мы должны воспитывать учащихся на позитивных примерах, Галине Васильне не грех вспомнить Асадова (А. Кузьменков. И был вечер, и было утро) – разговорная форма Федорыч, Васильне как отклонение от нейтрального варианта Федорович и Васильевне; – А вот стекло двойное бэмское! – кричал у входа стекольщик, который боялся со своим товаром лезть в середину рынка (Ю. Коваль. Приключения Васи Куролесова). Из «Краткого словарика, на всякий случай составленного автором»: «Такого стекла на свете нет. Есть богемское. Все стекольщики давным-давно переделали "богемское" в "бэмское"». 3. Апóкопа – прием, основанный на «урезывании слога в конце слова» [Античные теории… 1996: 123] или – шире – на отсечении части конца слова [Клюев 1999: 230; Москвин 2006б: 379; Квятковский 1998: 51], напр.: – Чего ты с ним, гадом, толкуешь, Федьк? – прогнулась фигура (А. Афанасьев. Комариное лето) – редукция гласного. Как показывают речевые факты, апокопа – прием, при котором происходит отсечение слова с правой стороны, причем неважно, что представляет собой отсеченная часть – звук, слог или не образующее слог / слоги сочетание звуков (прием «обрыв слова», по [Санников 1999: 65]). Отметим, что на этом приеме может строиться целый текст, как, например, рассказ М. Розовского «Остаточный принцип нашего секвестра» (приводится отрывок из него), в котором многочисленные апокопы позволяют автору выразить свое отношение к проблеме и создать комический эффект: Пробле не в том, что у нас не хвата дене. Пробл в том, как то, чего не, разделить на всех. Берем бюдже. Делим. Эт тебе, эт им, эт тем. То, что оста, идет на культур. Секвестируем и получа новы полубюдже.
Мы понима, что без культур наш обществ не бу нормаль развива. Мы чтим велики традиции Пу и Го, Ту и До, Че и Алексея 266
Макси Горько. Мы за свобо творчества от цензуры, ибо счита: никакого давления на худо. Каждый ху абсолютно сво. И пусть идет, куда хо. Но многие сегодня недово. Нас часто спрашивают: почему и раньше и сейча в своей экономической политике в отношении культуры мы применяем так называемый «остаточный принцип»? Мы отвечаем так: сейчас всем тяже. Везде чего не хвата… Танкисты считают, что на танк им сегодня тоже не хвата. Поэтому у меня предложе: давайте все, что у нас есть, опять отдадим этому танку. И тогда у нас вообще не бу культу, а значит и «остаточного принципа». Кто «за», прошу поднять ру. Опустили. И протяну но. Авторы «Общей риторики» отмечают, что апокопа может принимать внушительные размеры, как в случае «La P… respectueuse» («Добродетельная ш…») [Дюбуа и др. 1986: 100]. В этом случае – умышленное недоговаривание части слова. Такое недоговаривание осуществляется в связи с прозрачным намеком на смысл недосказанного либо с целью передачи эмоционального состояния героя. Поэтому апокопу Т. Г. Хазагеров и Л. С. Ширина в случае намека на смысл недосказанного рассматривают как разновидность умолчания [Хазагеров, Ширина 1999: 210]. В. З. Санников синкопу и апокопу называет «видом эвфемизма» [Санников 1999: 465] и приводит такие примеры: нас...л (синкопа) и ж…, г… (апокопа). Однако если эвфемизм определять как «слово или словосочетание, употребляющееся вместо наименований прямых и более точных, но признаваемых в условиях общения непривычными или грубыми» [там же: 262], то, с нашей точки зрения, в приведенных примерах апокопы такая замена не происходит, а значит, нет и эвфемизации. Здесь этот прием используется, скорее, для создания намека на нежелательные (по этическим соображениям) для произнесения вслух слова, литературный характер которых можно подвергнуть сомнению. Что же касается примера синкопы, то усечение сохраняет дисфемистичный (а не эвфемистичный) характер слова.
267
В целом можно заметить, что, по сравнению с другими приемами «звукового эллипсиса», апокопа отличается разнообразием функций. Уменьшение количества звуков в слове может быть результатом действия оператора наложения (слияния), продуцирующего такой прием, как синереза176. Отклонения с оператором перестановки как типом переноса На операторе перестановки как разновидности переноса основан прием метатéзы [Тихонова 2001: 95], который представляет собой перестановку в слове букв [Античные теории… 1996: 123] или звуков / фонем («звуковая метатеза»): – Карахтер у меня такой. Не люблю озорства (В. Г. Короленко) [Москвин 2006б: 382]. Такое перенесение звука из одного слога в другой является метатезой на расстоянии и именуется как гипертéза (перенесение) [Ахманова 2004: 99]: пакуста, бендяжка, моноез (вм. майонез), мерекандую (вм. рекомендую) (примеры из [Клубков 2002: 180-181]). Встречаются и другие терминологические обозначения приемов, основанных на перестановке звуков: обратная перестановка звуков / слов именуется анáстрофой [Ахманова 2004: 99]177; каламбурная перестановка начальных звуков в слове – акрофонической перестановкой: тот волк – вот толк [там же: 319-320]. Акрофонической перестановкой, или антистрофой (термин Ф. Рабле), называют также перестановку слогов, принадлежащих разным словам [Дюбуа и др. 1986: 115]. Пример тот волк – вот толк можно трактовать иначе: как парономазию (волк – толк, тот – вот) и аллитерацию (отклонения от принципа «нерегулярности текстовой структуры»). Поэтому здесь мы не усматриваем отклонение от языковой нормы (фонемный состав слов не нарушен) и, следовательно, не видим паралингвального приема. 176
То, что в основе синерезы лежит принцип контаминации (наложения), замечено в [Пекарская 2000б: 97]. 177 В этом случае лучше говорить о звуковой анастрофе, так как термин «анастрофа» используется также для обозначения перестановки соседних слов (вид инверсии) [Клюев 1999: 252] и целой группы фигур, основанных на обратной перестановке [КРР 2003: 50; Хазагеров, Ширина 1999: 200]. 268
Отклонения с оператором замещения Приемом, в основе которого лежит принцип замещения, является антистекон – замена в слове звука / буквы. Об этом приеме как «метаплазме замещения» пишет В. П. Москвин, отмечая, что антистекон используется при диалектной или просторечной стилизации, а также при «затемнении» внутренней формы слов. Его разновидностью исследователь считает ламбдаизм (использование вместо других фонем, обычно вместо ) [Москвин 2006б: 381-382]. Во французской риторике «замена» букв терминируется как антитеза [Безменова 1991: 195]. Но поскольку в отечественной традиции термин «антитеза» используется в значении «экспрессивное противопоставление», прием, основанный на замене в слове фонем / звуков, предпочтительнее терминировать как антистекон. Этот прием используется, например, в стихотворении П. Синявского, где замена свистящих [з], [с] на шипящие [ж], [ш] и наоборот, наряду со звукоподражательными повторами, характеризует речь персонажей с целью отображения комичности ситуации: Штранная иштория Встретил жук в одном лесу Симпатичную осу: – Ах, какая модница! Пожвольте пожнакомиться. – Увазаемый прохозый, Ну на сто з это похоже! Вы не представляете, Как вы сепелявите! – И красавица оса Улетела в небеса. – Штранная гражданка… Наверно, иноштранка. – Жук с досады кренделями По поляне носится: – Это ж надо было так Опроштоволоситься! Как бы вновь не окажаться В положении таком? Нужно шрочно жаниматься Иноштранным яжыком! 269
С целью речевой характеристики персонажа здесь используется также разговорная апокопированная (усеченная) форма наверно вместо наверное. Другие примеры антистекона: …Ты собираешь в лутошко грибы… (В. Хлебников); Иногда я представляю себе, как какой-нибудь захудалый американский солдатик с надкушенным гамбургером в зубах и до краев наполненный кака-колой случайно натыкается на компьютерные диски… (Н. Замяткин. Вас невозможно научить иностранному языку); Все умерли: и Федра, и Одетта. / И балерина старого Двора, / еще вчера царица полусвета, / теперь в Берлине ходит в нумера (Н. Кондакова. Выбор); – Как ты думаешь, может, на день рождения кумфетки притащить? – Что?! У нас две контрольные в один день?! – Да. / – Жучь!.. (из разг. речи студента). Отклонения с несколькими операторами Многие из названных выше приемов (конвергенция «звуковых приемов») используются для трансформации звукового облика слова курица в рассказе Д. Хармса: Один англичанин никак не мог вспомнить, как эта птица называется. – Это, – говорит, – крюкица. Ах нет, не крюкица, а кирюкица. Или нет, не кирюкица, а курякица. Фу ты! Не курякица, а кукрикица. Да и не кукрикица, а кикикрюкица. Хотите, я расскажу вам рассказ про эту крюкицу? То есть не крюкицу, а кирюкицу. Или нет, не кирюкицу, а курякицу. Фу ты! Не курякицу, а кукрикицу. Да не кукрикицу, а кикикрюкицу! Нет, опять не так! Курикрятицу? Нет, не курикрятицу! Кирикрюкицу? Нет, опять не так! Забыл я, как эта птица называется. А уж если б не забыл, то рассказал бы вам рассказ про эту кирикуркукукрекицу. Курица – крюкица (метатеза «р» и «у» с эпентезой с «к») – кирюкица (эпентеза «и») – курякица (антистекон, то есть замена звуков «и» на «у» в первом слоге и «у» на «а» во втором) – кукрикица (эпентеза «к» и замена гласного во втором слоге) – кикикрюкица (замена в первом слоге гласной и его редупликация) – кирикуркукукрекицу (замена «ки» на «ри», вставка слогов кур-ку-ку и замена гласной).
270
2.1.2. Риторические отклонения от акцентологической нормы с оператором смещения как типом переноса Ударение в русском языке характеризуется подвижностью (способностью перемещаться в разных формах слова) и разноместностью (в разных словах может падать на разные слоги), что создает предпосылки для его целенаправленного ненормативного перемещения. К. С. Горбачевич заметил, что «…поэтические вольности в ударении чаще всего представляют собой либо отражение старых или диалектных (социально-профессиональных) акцентов, либо являются смелым утверждением продуктивных, но еще не принятых обществом языковых новообразований» [Горбачевич 1978: 94]. Отклонения с оператором смещения как типом переноса используются, как правило, в иронической функции для иллюстрации небрежного отношения к языку, неправильного произнесения слов (1) либо с целью речевой характеристики персонажа (2): 1) Где свой обогатить язык, Запасы слов, оттенки речи?.. О! Мной давно уже замечен Живой языковой «родник»!.. Он может все переиначить – Оттенки, фразы и слова. Как скажет: «Разрешите нАчать» Потом: «людЯм нужны средствА». Еще добавит: «совремЁнный» И «надо указать о том…» – Летят все правила, законы, Разрушенные «родником» (Б. Котляров. Родник). 2) – Кто ж живым людям гробы робит? Кикимора! (Я. Шипов. Чужие воспоминания).
271
2.1.3. Риторические отклонения от интонационной нормы Отклонения с оператором замещения При рассмотрении интонации как стилистического средства В. И. Максимов приводит пример создания комического эффекта при помощи интонации (движения основного тона). В «Клопе» В. Маяковского разносчица яблок зазывает покупателей, произнося названия предметов торговли не с интонацией законченности или перечисления, а с восклицательной интонацией, неуместной в ситуации их отсутствия: Ананасов! Нету… Бананов! Нету… Антоновские яблочки 2 штуки 15 копеек. Прикажите, гражданочка? [Стилистика... 2004: 278]. Отклонения с оператором расчленения Среди отклонений от интонационной нормы можно встретить прием деления (разрыва, дробления, расчленения) слова на слоги или звуки с целью придания ему значимости. Этот прием называется «скандированием» [Хазагеров 1984: 64], напр.: – Эй вы, невежи! Заходите, что ли. В гости – Поучиться Вежливости! (Ян Бжехва в пер. Б. Заходера); – Я не виноват был перед ними, поймите меня: не ви-новат! (Н. Волков. Не дрогнет рука). Разновидность «скандирования» – «слоговая парцелляция»178, напр.: 178
Скандирование и слоговая парцелляция даются как синонимы в [Москвин 2006а: 307]. 272
Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя. Ло-ли-та: кончик языка совершает путь в три шажка вниз по нёбу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Ло. Ли. Та (В. Набоков). Таким образом «скандирование» и «слоговая парцелляция» основаны на операторе расчленения слова. Этот же оператор лежит в основе еще одного приема, который терминируют как «сдвиг», напр.: Не просто Филя (КП. 17.11.1995) – расчленение слова простофиля приводит к появлению речевой омонимии и отсюда – к двусмысленности. Или другой пример: Джентльмены у дачи (Совершенно секретно. 1996. № 1). Такое акустико-фонетическое явление, когда конец одного слова и начало следующего за ним или два стоящих рядом коротких слова образуют новое слово, рассматривается А. П. Квятковским, но он его трактует как явление, не замечаемое самими авторами и связанное с неблагозвучием слова, т.е. как речевой недочет [Квятковский 1998: 296]. Как прием подобное явление рассматривает И. В. Пекарская, полагая, что перед нами пример реализации принципа контаминации (способом синкретизма) [Пекарская 2000б: 37]. Названный выше прием описан также у В. П. Москвина, но под разными названиями. Так, при характеристике фигур двусмысленной речи он пишет о дилогии, отмечая, что дилогия может быть основана на сдвиге – «омофоническом осмыслении двух слов или их контактирующих фрагментов как одного слова в устной речи (ср.: ко злу и козлу)», ограничивая тем самым сдвиг сферой устной речи [Москвин 2006б: 258]. В то же время при описании ложного этимологизирования он пишет о «ложноэтимологическом расчленении179» – фигуре замены слова рядом слов, омофоничных его частям. Среди видов такого расчленения исследователь называет гендиадис как расчленение слова на две единицы и гендиатрис как расчленение слова на три единицы: Бог рати он, на поле он (Р. Г. Державин о Багратионе и Наполеоне) [Москвин 2006б: 234-235].
179
Ср. иное понимание термина «расчленение» в античности: «Иногда подобие тому, чтó мы говорили о повторении отдельных слов, и целые части фраз, начальные, заключительные, не тождественные, но сходные по смыслу, находятся в созвучии друг с другом. Иные называют это синонимией, другие – расчленением» [Античные теории… 1996: 283]. 273
Под понятие сдвига И. В. Пекарская подводит и факты столкновения в одной фразе основного слова и возникающего на его основе «сдвинутого слова», напр.: Подождем не под дождем [Пекарская 2000б: 37]; Ох, у модницы, у крали ночью перышки украли! (И. Тарабукин. Лесное происшествие) или Не ходи, как все разини, / Без подарков ты к Розине, / Но, ей делая визиты, / Каждый раз букет вези ты (Д. Д. Минаев. Рифмы-каламбуры) [там же: 114-115]. Такие речевые явления также подводятся В. П. Москвиным под понятия гендиатриса и гендиадиса: Ударяйте кол о кол – вот и будет колокол (Н. Глазков); Он скажет слово «за» И кается… Он постоянно заикается (Эмиль Кроткий)» – гендиатрис; Вы не победили, но как вам понравилась сама гонка! Самогонка нам понравилась, поэтому мы и не победили (телепередача); Он не богослов, а бог ослов (Н. С. Лесков) – гендиадис (раздвоение, эндиайон) [Москвин 2006б: 235]. Однако столкновение в узком контексте речевых омонимов является отклонением не от собственно языковой, а от речевой нормы: оно может рассматриваться как отклонение от «принципа нерегулярности текстовой структуры» (нейтральной речевой нормы в понимании Ю. М. Скребнева). Среди примеров гендиадиса у В. П. Москвина встречаются также речевые факты иного свойства: Два брата-ренегата. Рене Гад и Андре Гад (И. Ильф); Шаля, / такие ноты наляпаны, / что с зависти / Лопнули б все Шаляпины (В. Маяковский). Эти речевые явления подходят под описание гендиадиса180 Е. В. Клюевым: 180
Нужно иметь в виду, что существует совсем иное понимание гендиадиса (раздвоения, эндиадийóна): «…избыточная согласованность членов предложения, заключающаяся в уподоблении морфемы (окончания) одного слова морфеме (окончанию) другого, "незаконное" согласование»: Али чарой зеленым вином обносили тебя… (ср.: Обносили чарой зеленого вина) [КРР 2003: 128] (перед нами то, что иные исследователи именуют гипаллагой); использование в качестве фигуры размещения или паронимии конструкции с двумя однородными членами (именами существительными), называющими одно сложное понятие, которое обычно выражается сочетанием с подчинительной частью (одно существительное – определение, другое – определяемое): Это было оскорбление и действие (ср.: оскорбление действием); Здесь нужно действовать силой и оружием (ср.: силой оружия) [Хазагеров, Ширина 1999: 216-217]. Непонятен мотив отнесения однородных членов к одному сложному понятию (напр., действовать силой вовсе не обязательно предполагает использование оружия). 274
«…раздвоение слова: одно слово превращается в два самостоятельных», которые получают переосмысление, в результате получившиеся части не дают при сложении прежнего смысла, напр.: На ежедневную работу в селах давно не ходят даже в самое горячее время – так что трудодни надо понимать теперь как "трудные дни", то есть дни, когда хочешь не хочешь приходится трудиться…» [Клюев 1999: 228].
2.2. Риторические отклонения от лексико-фразеологической нормы или ее нейтрального варианта Вопрос о возможности квалификации отклонений от лексических норм как паралингвальных РП зависит от понимания лексической нормы. С. И. Виноградов пишет о том, что норма лексическая (норма словоупотребления) – это «языковая норма, регулирующая формирование словарного состава литературного языка и использование лексики в литературных текстах». Эта норма выявляется, по его мнению, на двух уровнях: уровне словарного состава литературного языка и уровне эталонной лексемы. На первом уровне «норма диктует использование в литературных текстах литературной лексики, допуская употребление слов, находящихся за пределами литературного языка, только в текстах определенных типов (в художественной, разговорной, отчасти публицистической речи) и обязательно со специальным коммуникативно-стилистическим заданием (речевая характеристика персонажей, создание образа автора, языковая игра)» [КРР 2003: 360]. «Нормативный императив на уровне эталонной лексемы, – пишет исследователь, – заключается в том, чтобы употреблять каждое слово в той форме, с тем значением и теми коннотациями, стилистической окраской, лексической сочетаемостью, которые присущи ему как единице литературного языка (в типичном случае, хотя и далеко не всегда, эталонные лексемы зафиксированы в словарях)». При таком понимании лексической нормы к случаям ее нарушения относят – и на это С. И. Виноградов обращает внимание – факты типа акадэмия, прúговор, бюллетни, башкиров [там же: 361]. В более узком значении под лексической нормой, как отмечает М. Р. Савова, понимают употребление слова в строгом соответствии 275
с его словарным значением, а также нормы относительно употребления слов в сочетаниях с другими словами, имеющими свое лексическое значение, т.е. нормы лексической сочетаемости» [Ипполитова и др. 2004: 297]. Существует еще более узкое понимание лексической нормы: «…т о ч н а я з а к р е п л е н н о с т ь с е м а н т и к и слова: одного или нескольких значений, первого, основного, значения, признанных переносных и фразеологически связанных значений. Эта закрепленность зафиксирована в академических толковых словарях» [Львов 2003: 84]. Отнесение точной закрепленности семантики слова к лексической норме не вызывает сомнения. Вопрос в том, можно ли считать нормы лексической сочетаемости разновидностью лексической языковой нормы? Д. О. Добровольский лексическую сочетаемость относит к области узуальных норм: лексическая сочетаемость, в отличие от семантической сочетаемости, «…не выводится из значения и не может быть описана как регулируемая некими общими правилами» [Добровольский 2003: 128]. Он рассматривает лексическую сочетаемость в диахронии и описывает «узуальные сдвиги» в употреблении слов, связанных с нормами современной лексической сочетаемости, выделяя два типа «сдвигов»: 1) коллокации (устойчивые идиоматические словосочетания, или – в терминологии В. В. Виноградова – фразеологические сочетания), обнаруживающие отклонения от современных норм сочетаемости (всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность; сделали вопрос), и 2) узуально связанные словосочетания, основанные на нестандартном с современной точки зрения выборе контекстуального партнера (очень замечательный человек; в ветреном тщеславии). Полагаем, что идиоматические сочетания слов, рассматриваемые в синхроническом аспекте, могут быть отнесены к фразеологической норме, о которой, как отмечает В. М. Лейчик, практически ничего не говорится в лингвистической литературе последних лет [Лейчик 2003: 183] и которая может рассматриваться в рамках лексической нормы, поскольку фразеологизмы как несвободные устойчивые сочетания традиционно признаются единицами языка ввиду их идиоматичности (неделимости). Модели линейного объединения слов присутствуют в самой языковой системе: если синтаксис интересуют модели словосочетаний / предложений вне их лексического наполнения, то лексическая сочетаемость слов, также имеющая отношение к синтагматике, – прерогатива лексической семантики. 276
В дальнейшем под лексической нормой мы будем понимать и точную закрепленность семантики слова (употребление слова в присущем ему лексическом значении), и нормы сочетаемости слов (семантической и лексической). Риторические отклонения от фразеологической нормы подразделяются исследователями на два типа: отклонения от содержания (значения) фразеологизма и отклонения от формы его выражения. Такого рода отклонения называют «преобразованием (обновлением) состава фразеологизма» [Голуб 1999: 123], «окказиональной реализацией фразеологизма» [Новикова 1985: 80] или (чаще) его трансформацией. Употребление фразеологизма в необычном для него значении обусловлено допущением сочетаний фразеологизма, вопервых, со словами такого лексического ряда, с которыми он как единица языка, имеющая определенное лексическое значение, в пределах нормы сочетаться не может, т.е. отклонением от норм лексической сочетаемости, во-вторых, со словами, не совместимыми с ним по грамматическим категориям (вида, рода, одушевленности и неодушевленности и т.п.). Использование фразеологизма в необычной для него форме предполагает различные преобразования, изменения состава компонентов. Все эти отклонения, используемые с определенными стилистическими целями, достаточно хорошо описаны в современном языкознании, в том числе на материале русского языка (см.: [Молотков 1966; Бойченко 1993; Гольцова 1993 ] и др.). Поэтому мы ограничимся лишь иллюстрацией различных операторов, лежащих в основе того или иного отклонения. При этом к фразеологизмам, вслед за В. Н. Телия, относим только фразеологизмыидиомы и фразеологические сочетания (фразеологизмы, или коллокации, с аналитическим типом значения)181. Наблюдается частичный 181
Пословицы и поговорки, крылатые выражения, с точки зрения В. Н. Телия, не имеют отношения к русской фразеологии, поскольку: а) двуплановость пословиц и поговорок – следствие не внутриязыковых закономерностей, а условий жанра (притчевый характер); б) воспроизводимость пословиц и поговорок обеспечивается «цитацией» этих выражений как народного мнения о ценности (они воспроизводятся не как единицы языка, а как «чужая речь» по памяти или подлиннику); в) эти выражения укладываются, в отличие от фразеологизма, в понятие о «жанре» [Телия 1996: 73-75]. Такой подход к определению фразеологических единиц позволяет разграничивать приемы, связанные с употреблением фразеологизмов, от приемов цитации и трансформации прецедентного текста, о которых позже пойдет 277
изоморфизм названных типов отклонения: и в первом, и во втором случае отклонение осуществляется на основе формальных операторов: прибавление (расширение) значения фразеологизма или его состава; убавление (сужение) значения фразеологизма или сокращение его состава; замена компонента / компонентов в составе фразеологизма; перестановка компонентов; расчленение состава фразеологизма. Отклонения с операторами прибавления В области авторского обновления фразеологизмов среди операторов прибавления весьма продуктивен оператор контаминации. Контаминацию (наложение) фразеологизмов понимают как «…смешение в одном двух или нескольких фразеологизмов, которое не приводит к образованию новой единицы» [Молотков 1966: 105]. И. В. Пекарская под контаминацией понимает не только наложение фразеологизмов с общим членом, но и вставку во фразеологизм другого устойчивого выражения или свободного слова / сочетания слов, то есть то, что другие исследователи называют «расширением состава фразеологизма». К контаминации она относит также линейное соединение ряда фразеологизмов и замену компонента фразеологизма [Пекарская 2000б: 130-131]. Другими словами, термин контаминация она использует в более широком значении. Тяжелее всего нести крест, который на тебе поставили (ЛГ. 27.02-05.03.2002) – нести свой крест + поставить крест на ком-н.; Супруги жили душа в душу: то он туда ей плюнет, то она ему (Анекдоты от Михалыча. М., 2005) – душа в душу + (на)плевать в душу. Грамматическое распространение фразеологизмов: «Сейчас ты у меня станешь бабушкой», – зловеще прошипел Вовка и начал шевелить мозгами со страшной силой (М. Дружинина. Открытка) – грамматическое распространение просторечного фразеологизма шевелить мозгами [ФС 2004а: 599] (ср.: думать со страшной силой) при помощи вставки (конечного присоединения) дополнительных единиц, усиливающих его значения. Такой же пример, но в сочетании с другими приемами: Нашла коса на камень. И разрубила его речь. Эти приемы не всегда разграничиваются, см., напр., [Гарбовская 2003]. 278
(ЮСВ. 08.02.1997) – в сочетании с парцелляцией; Хочется показать себя добрым, могущественным и щедрым волшебником, который способен и волков накормить, и овец сохранить, раздать всем сестрам по серьгам, братьям – по бутылке, а друзьям – по сто рублей (Завтра. 1998. № 52) – в сочетании с «буквализацией фразеологизма». Чаще вставки осуществляются в середине фразеологизма, напр.: Обещанных дивидентов три года ждут (КП. 02.1995) – вставка компонента дивиденты в устойчивое сочетание обещанного три года ждут, повлекшая изменение его грамматической формы; Тут-то и зарыта – целиком и полностью! Пресловутая собака… (Н. Замяткин. Вас невозможно научить иностранному языку) – парентеза (целиком и полностью!) и вставка компонента пресловутая. Отклонения с операторами убавления На сужении значения слова, по мнению М. Л. Гаспарова, строится эмфаза: Чтобы сделать это, нужно быть человеком (т.е. героем); тут нужен герой, а он только человек (т.е. трус) [Гаспаров 1997: 576]. Такое употребление термина «эмфаза» не является общепринятым: как правило, под эмфазой понимают выделение в речи важной в смысловом отношении части слова, слова в целом, сочетания слов, предложения при помощи интонации, особого эмфатического ударения, усилительных частиц, синтаксических средств и т.д. (см. [КРР 2003: 773-774]). Очевидно, сужение значения слова (усечение его сем) настоящий мы наблюдаем в высказывании: 5000 000 наград настоящим мужикам от торговой марки «Толстяк»! (КП. 18-25 окт. 2002 г.). – Настоящий воспринимается в значении «пьющий пиво рекламируемой марки». Среди отклонений от фразеологической нормы продуктивен оператор пропуска, напр.: Вон оно как. Вон как. Интересно. Спустя 20 лет… Все на круги своя (А. Курчаткин) – ср.: возвращаться на крýги своя;…Настроение было – хоть в петлю головой или наглотаться таблеток и сдохнуть (АиФ. 1999. № 13) – ср.: хоть в петлю головой лезь.
279
Отклонения с операторами переноса Отклонения с оператором семантического переноса Типичным отклонением от лексической нормы является употребление слова или словосочетания в окказиональном переносном значении, именуемое тропом, точнее – лексическим (словесным) тропом. Использование так называемых «языковых тропов»182, то есть слов, переносное значение которых закреплено в толковых словарях, может рассматриваться как отклонение от нейтрального варианта лексической нормы. Напр.: Небо с мерцающими звездами будило эти мысли и у Стеши, и у Саши, и у всех десятиклассников . (А. Кузнецова. Честное комсомольское) – ср. нейтральный вариант: вызывало мысли; – Сын твой Алексей трех лет от роду, срам какой, голозадый бегает! И запилила (И. Ильф. Ассортимент «четырех королей») – ср.: И давай попрекать. «В основе я з ы к о в о й м е т а ф о р ы, – пишет В. Н. Телия, – лежат объективированные ассоциативные связи, отражаемые в коннотативных признаках, несущих сведения либо об обиходнопрактическом опыте данного языкового коллектива, либо о его культурно-историческом знании (ср. свинья – грязное животное, она не привязывается к хозяину, как другие домашние животные – отсюда атрибуция признака неблагодарности; море – безмерное водное пространство, поэтому безмерное количество может быть названо морем )» [Телия 1977: 192]. И далее: «языковой характер метафоры проявляется в закрепленности и воспроизводимости переосмысленного значения языковой формы в речевой цепи [там же: 194]. Г. Н. Скляревская, изучив лексикографическую репрезентацию языковой метафоры, пришла к выводу о том, что «…выбор источника метафоризации и символа переноса ограничен и связан достаточно устойчивыми нормами и закономерностями коллективного языкового сознания» [Скляревская 1987: 65]. Существует большое количество публикаций, посвященных изучению и описанию тропов. Выделяется даже особый раздел язы182
Но не «мертвых»: в них произошло «стирание исходного означаемого и его замена новым» [Дюбуа и др. 1986: 175]. 280
кознания – тропология183, или теория тропов, занимающийся решением таких задач, как определение понятия тропа и установление его генезиса, вычленение отдельных видов тропов и их систематизация, выявление мотивированности тропа и тропологическая связь языка и мышления (см., напр.: [Желтухина 2003; ЭК 2005: 368; Безменова 1991: 38]). Вопрос об определении тропа по-прежнему остается дискуссионным, в результате чего к тропам относят не только метафору, метонимию, но и, например, гиперболу, перифразу, сравнение, эпитет, иронию, катахрезу и др.184 Традиционное определение тропа как употребления слова или словосочетания в переносном значении с целью создания образа185 представлено в большинстве публикаций, особенно учебно-научного характера (в частности, во многих учебниках и учебных пособиях по стилистике, культуре речи и риторике). Значение признают «…переносным или образным, когда оно не только называет, но и описывает или характеризует предмет через его сходство или связь с другим предметом» [Арнольд 2002: 174]. Уже в «Риторике к Гереннию» читаем: «Перенос имеет место тогда, когда на тот или иной предмет переносится название другого предмета, если видимое взаимное сходство предметов делает подобный перенос допустимым. Применяется перенос либо ради того, чтобы предмет предстал перед нашими взорами (ради наглядности), либо в целях краткости речи, либо во избежание непристойности, либо для его приукрашения» (курсив наш – Г. К.) [Античные тео-
183
В свое время, как пишут авторы «Общей риторики», тропологию называли также лепорией [Дюбуа и др. 1986: 33]. 184 Отнесение всех этих приемов к тропам связано, очевидно, с тем, что тропы относились к «фигурам переосмысления» (отклонениям в пределах одного слова), а «переосмысление может быть переносом значения, сужением значения и усилением значения слова» [Гаспаров 1997: 575]. Самым широким можно считать определение тропа в трактате «О поэтических тропах» (VI в.) Георгия Хировоска, где под тропами понимаются «…обороты, которые основаны как на семантическом (собственно тропы), так и на синтаксическом (фигуры) преобразовании для усиления изобразительности и выразительности речи, т.е. все имеющиеся способы украшения речи» [Прокопчук 2007: 117]. 185 Тропы называют «фигурами образности» [Береговская 1998: 42]. 281
рии… 1996: 229]. Тем самым в античности метафора186 осмысливалась лишь с точки зрения формы языкового знака: как перенос наименования – транспозиция одной формы (одного означающего) на место другой формы (другого означающего), причем функция такого переноса не сводилась лишь к наглядности, образности выражения. В дальнейшем стали говорить не только о переносе (замещении) формы, но и о переносе лексического значения187. Механизм семантического преобразования, приводящего к метафоризации, описан В. Г. Гаком. Это устранение родовой и видовой семы и актуализация потенциальной188 семы (в слове лиса в значении «хитрый человек» устраняется родовая сема «животное» и видовая сема «животное с определенными признаками», актуализируется потенциальная сема – присваиваемое лисе качество хитрости) [Гак 1972: 151-152]. Переносное значение, отмечают исследователи, может появляться у слова также в результате «наведения семы» – привнесения «чужой», посторонней для данного слова семы. Так, по мнению Б. Ю. Нормана, этот процесс представлен в таком высказывании: И все-то мы делаем спешно, с ускорением. То мы со всех женщин Средней Азии сдирали паранджу, несмотря на вековые традиции и кровавое сопротивление. То устроили "чертополох" с письменно186
«Под термином «метафора» собирается в это раннее время большая часть тех языковых явлений, которые позднее обозначаются еще не знакомым перипатетической риторике термином «троп»» [Меликова-Толстая 1996: 166]. 187 Наиболее категорично в этом отношении мнение Е. Т. Черкасовой: о «переносе» вести речь допустимо «…только в сугубо условном смысле – в смысле изменения обычного для данного слова круга и объема его лексических связей, в смысле " п е р е н е с е н и я " с л о в а в н о в о е с е м а нт и ч е с к о е о к р у ж е н и е» [Черкасова 1968: 35]. 188 «…Предметы и явления объективной действительности, обладающие многими признаками и характеризующиеся с разных сторон, получают в языке лишь частичное отражение. В аспекте семной структуры слова это явление получает отражение в наличии потенциальных сем, соотносящихся с потенциальными, нерелевантными свойствами предмета и предопределяющих возможность необычных сочетаний слов, сдвигов их значений и т.п. Именно это свойство словесного знака создает одну из самых широких возможностей использования слова в его непрямой функции» [Азнаурова 1977: 93]. 282
стью, переводя ее с арабского на латинский, а с латинского на славянский шрифт (ЛГ. 27 дек. 1989 г.). Исследователь предполагает, что перенос значения мотивирован созвучием чертополоха со словом переполох или ассоциацией с сочетанием черт-те что – «неразбериха, путаница» [Норман 1994: 35-36]. Другие исследователи подобные случаи объясняют актуализацией ассоциаций. Основанием для переноса признака, считает Э. С. Азнаурова, может быть актуализация любого типа сем – как потенциальных, так и дифференциальных. «Актуализироваться могут коннотации, а также постоянные и случайные ассоциации. Таким образом, семы, на которых строится "смещенная речь", могут оказаться и за пределами лексикографического описания слова» [Азнаурова 1977: 98]. Решение вопроса о том, привносятся ли в значение слова «чужие» семы или актуализируются имеющиеся, зависит от того, что понимать под лексическим значением слова: денотативное содержание наряду с различными коннотациями или только денотативное содержание. При первом понимании лексического значения коннотации рассматривают как семы, репрезентирующие ассоциативные признаки, общие для всего языкового коллектива [Стернин 1979: 89], или как «иерархически организованную систему» с разными уровнями, в которую входят также скрытые, вероятностные, нечеткие семы и семы, отражающие индивидуальные ассоциации, служащие инструментом образования тропов [Скляревская 1993: 15-17]. Второе понимание лексического значения представлено в работе В. Н. Телия «Типы языковых значений…» [Телия 1981: 227]. Несмотря на существование разных трактовок понятия лексического значения, общепризнанно, что тропы есть результат изменения (преобразования) в семантической структуре слова, при котором возникает производная семантема (семема, лексическое значение), сохраняющая связь с мотивирующей ее семантемой. Таким образом, считается, что техника «переносов» базируется на полисемии как фундаментальном свойстве языка. При этом, по мнению исследователей, не всякое вторичное производное значение может квалифицироваться как переносное. Таковыми являются лишь те значения, которые характеризуются образностью – «одновременным видением двух явлений». Значения, не обладающие такой характеристикой, рассматриваются в синхронии как «варианты прямого значения»
283
[Чернейко 1990: 45]189. В безóбразном производном значении (вторичном номинативном, номинативно-производном) сема, связывающая исходное значение с производным, вычленяется, как отмечает Г. Н. Скляревская, логическим путем в качестве элемента сходства по форме, функции и т.п. и не вносит в слово добавочных экспрессивных, эмотивных или оценочных приращений: колонна здания – колонна демонстрантов (общая сема «вытянутый и узкий»), клавиша рояля – клавиша пульта управления (общий семантический элемент – сходство функций) [Скляревская 1993: 40]. «…Метасемема, – пишут представители Льежской школы риторики190, – изменяет содержание слова», «при этом обязательно сохраняется частичка его первоначального смысла» [Дюбуа и др. 1986: 173]. Таким образом, главным признаком тропа признается его семантическая двуплановость [Москвин 2006а: 326; Корольков 1973: 70-71 и др.], или «актуальная двузначность» [Скребнев 1975: 117]. Поскольку оба типа значений сосуществуют в одном контексте и воспринимаются сознанием одновременно, явление вторичного окказионального переименования, по мнению И. Р. Гальперина и Э. С. Азнауровой, правильнее квалифицировать «не как перенос значения, а как одновременную реализацию системного значения и окказионального смысла» [Азнаурова 1977: 95]. О том, что сочетание «перенос значения» не вполне точно обозначает механизм тропа, писали и другие исследователи, см., напр.: [Скребнев 1975: 118; Арутюнова 1998: 370; Солодуб 1999: 68]. Признавая некорректность сочетания «перенос значения» применительно к тропу, исследователи стали говорить не о «переносе значения», а о «преобразовании значения» [Арнольд 2002: 123], «переносе наименования или трансформации значения» [Никитина, Васильева 1996: 138].
189
Разграничивают переносное значение как устойчивый факт языка и переносное («мимолетное», ограниченное рамками данного высказывания) употребление слов в речи с целью особой выразительности [Маслов 1997: 104]. Понимание переносного значения, таким образом, зависит от подхода – риторического или семантического. 190 Термин метасемема (в концепции представителей Льежской школы риторики) «в целом охватывает явления, традиционно называемые тропами…» [Дюбуа и др. 1986: 168] 284
Для нас существенным является вопрос: в результате чего появляется семантическая двуплановость, при помощи каких операций она осуществляется? Представители «группы µ» определяют метасемему «как фигуру речи, заменяющую одну семему на другую». Но поскольку «семема всегда выражается через слово», фигуры, относимые к метасемемам, «часто определялись как заменяющие одно слово на другое» [Дюбуа и др. 1986: 170]. Хотя метасемема трактуется как изменение содержания какого-то отдельно взятого слова, ученые добавляют, что воспринимается она как таковая лишь в словосочетании или в предложении [там же: 176]. Сравните понимание метасемемы «группой µ» с определением тропа у А. А. Волкова, в котором также содержится указание на операцию замещения: «Тропом называется прием речи, состоящий в таком замещении речения (слова или словосочетания) другим, при котором замещающее речение, используясь в значении замещенного, обозначает последнее и сохраняет смысловую связь с ним». И далее он говорит, что слово, замещающее другое слово, используется в несобственном, переносном значении: «Переносное значение, однако, содержит связь того слова, которое использовано, с тем словом, вместо или в смысле которого оно использовано, и эта связь каждый раз представляет собой специфическое пересечение значений двух или нескольких слов, которое создает особый образ предмета мысли, обозначенного тропом» [Волков 2001: 303]. Именно метафора, как считают авторы «Общей риторики», «…строится на основе реального сходства, проявляющегося в пересечении двух значений, и утверждает полное совпадение этих значений» [Дюбуа и др. 1986: 196]. Основными тропами признаются синекдоха, метафора и метонимия. Таким образом, по мнению целого ряда ученых, появление переносного значения есть результат замещения (субституции) слов / словосочетаний191, что, в общем-то, соответствует определению переноса, данному в античности – в «Риторике к Гереннию». Говоря современным языком, «в основе переносного, метафорического использования слов (и их значений) лежит не что иное, как искусственное, нарочитое нарушение правила номинации» [Солнцев 1974: 8].
191
Поэтому тропы рассматривают как тип «фигур замещения», напр., в [Брандес 1983: 138; Скребнев 1975: 121]. 285
Согласно другой точке зрения, в основе образования тропа лежит принцип сопоставления / аналогии / сравнения понятий или денотатов. «Суть тропов, – пишет И. В. Арнольд, – состоит в сопоставлении понятия, представленного в традиционном употреблении лексической единицы, и понятия, передаваемого этой же единицей в художественной речи при выполнении специальной стилистической функции» [Арнольд 2002: 123-124]. В «Общей риторике» Т. Г. Хазагерова и Л. С. Шириной читаем: «Все тропеические фигуры построены на сопоставлении денотатов двух или нескольких знаков, отраженных в них референтов или референтных ситуаций окружающей действительности. Сопоставляя денотаты двух знаков, сравнивая два простых представления и получая третье, более сложное, мы можем дать этому представлению название, соответствующее названию одного из простых представлений. В результате такого способа наименования мы получаем троп» [Хазагеров, Ширина 1999: 120]. Сопоставление осуществляется в результате действия ассоциативных связей: тождества, смежности, сходства или контраста. Соответственно различают четыре основных вида тропов: перифраза, метонимия, метафора и антифразис [там же: 274]. Подобной точки зрения (ее можно считать традиционной) на механизм образования тропа придерживаются и другие исследователи. Так, Е. В. Клюев считает, что «троп есть аналогия без называния второго члена сравнения, но с переносом его значений на первый», когда одно сопоставляется с другим, причем из двух членов аналогии присутствует лишь один, которому второй член аналогии как бы «делегирует значение». Тем самым, пишет он, «имея троп, мы имеем одну речевую единицу (слово или словосочетание) и признак другой речевой единицы». Поскольку второй член сравнения отсутствует, процедура аналогии, по мнению исследователя, «нарушена» или преобразована [Клюев 1999: 180]. Но если представители Льежской школы риторики считали, что в тропе «изменение формы сопровождается изменением смысла» [там же: 172], то Е. В. Клюев утверждает, что «тропы предполагают прежде всего преобразование основного значения слова/словосочетания (и только как следствие – преобразование структур, в которые они входят)…» [там же: 180]. Общий принцип построения тропов, по его мнению, – «паралогическое обращение с логикой и прежде всего аналогией» [там же: 182], поэтому к тропам он относит 37 приемов. 286
С мнением названных исследователей соотносится и позиция И. В. Пекарской, которая полагает, что тропеические фигуры «…строятся по общему парадигматическому принципу сравнения, реализующему себя в частном парадигматическом принципе – аналогии. Способами реализации аналогии являются: (а) сходство (метафора, гипербола, литота и др.), (б) связь (метонимия, синекдоха и др.) и (в) тождество (перифраза и др.)» [Пекарская, Амзаракова 2003: 81] (см. также [Пекарская 2003: 79]; обратим внимание, что понятие смежности заменяют понятием связи). Теория тропа как сравнения / сопоставления / аналогии объясняет механизм образования тропеического прежде всего в экстралингвистическом плане и поэтому дополняет теорию тропа как замещения слова с последующим изменением его значения: адресант в результате сопоставления (сравнения, аналогии) осуществляет замещение одного слова другим, в котором появляются / актуализируются семы, объединяющие его с первым словом, эксплицитно не выраженным (другими словами, осуществляет «сдвиг денотативной соотнесенности» на основе переноса общего признака Х с объекта первичной номинации на объект вторичной номинации [Азнаурова 1977: 94]). Наконец, существует еще одна теория тропа, получившая обобщенное отражение в формулировке П. Шофера и Д. Райса (Schofer P., Rice D. Metafhor, metonymy and synecdoche // Semiotica, 1977, v. 21): троп представляет собой «семантич. транспозицию от наличного знака (знака in praesentia) к знаку отсутствующему (in аbsentia), к-рая 1) основана на восприятии связи между одной и более семантич. чертами каждого из означаемых, 2) маркирована семантич. несовместимостью микроконтекста и макроконтекста, 3) мотивирована референционной связью подобия, или причинности, или включения, или противоположения (под семантич. чертой понимается единица значения; микроконтекст – сегмент в цепи означающего, к-рый занимает Т.; в случае однословного Т. микроконтекст совпадает с самим наличным знаком; макроконтекст включает и те части цепи означающего, к-рые необходимы для определения отсутствующего знака)» [БЭC 1998: 520]. Таково «итоговое определение тропа, достигнутое неориторикой» [Лотман 1995: 96]. По мнению М. Р. Желтухиной, механизм образования тропов представляет собой технику переносов (в основе которой «выбор – замена»), осуществляемую на основе таких операций, как транс287
формация, тождество, смежность, сходство, контраст [Желтухина 2003: 54]. Однако исследователь не разъясняет подробно, как соотносится первый тип операций с остальными. Все эти операции, очевидно, вычленены в соответствии с выделяемыми во многих источниках такими типами тропов, как тропы сходства (метафора и ее виды), тропы смежности (метонимия и ее виды), тропы тождества (перифраза и ее виды), тропы контраста (ирония и ее виды)192. Общепринято отнесение к тропам метафоры и метонимии. Но нередко как троп определяют и эпитет, напр., в [Васильева и др. 1995: 146]. В широком понимании эпитет – «всякое слово или словосочетание, называющее признак предмета или явления (в том числе и действия), а также признак признака. Отсюда следует, что эпитет относится не только к существительному, но в равной мере к прилагательному (причастию) и глаголу и может быть выражен прилагательным (и причастием), существительным согласованным (приложение) и несогласованным (генитивное и предложное определение), наречием и деепричастием. По своей синтаксической природе эпитет может быть не только определением (и приложением), но также предикативным определением и обстоятельством. Именная часть составного сказуемого, как выражающая признак предмета, хоть и отнесенный к нему в порядке предикации, также является эпитетом» [Вольф 1972: 55-56]. В узком понимании эпитет – образное определение, дающее выразительную характеристику предмета193. Независимо от широкого или узкого понимания эпитета включать его в разряд тропов можно лишь с большими оговорками. Исследователи неоднократно писали о том, что эпитет не всегда имеет в своей основе 192
Как отмечает В. И. Корольков, выделение тропов, а) основанных на принципе сходства, б) основанных на принципе смежности и в) основанных на принципе противоположности, принадлежит А. Бэну (у которого эти группы называются фигурами). К названным группам В. И. Корольков добавляет отношения тождества [Корольков 1973: 66, 71]. Тропы сходства называют компаративными тропами, тропы смежности – контигуальными, тропы противоположности / контраста – контрастивными тропами, тропы тождества – тавтологическими [там же: 71]. 193 В таком понимании эпитет отграничивается от логических определений (атрибутивных слов), которые выполняют функцию выделения предмета из ряда подобных: белая скатерть, белые босоножки [Пекарская, Амзаракова 2003: 82]. Образные определения называли «живописными эпитетами» и причисляли к метафорам [Общая реторика 1844: 88] 288
переносное значение, и этот факт отмечался уже в античности. Так, Квинтилиан писал: «Главным украшением эпитета служит переносное значение: "необузданная страсть", "безумные замыслы". Путем прибавления этих новых качеств эпитет становится тропом…» [Античные теории… 1996: 237]. Ср. такое же суждение: «Лучшiе эпитеты – переносные» [Теория красноречия… 1830: 41]. К сожалению, не все современные исследователи оговаривают этот факт. В тропах основным оператором отклонения от языковой нормы является оператор семантического переноса (семантической транспозиции), хотя очевидно, что механизм образования того или иного тропа включает в себя и более частные (вспомогательные) операторы, подчиненные основному. Такое ограничение оправдано тем, что любая классификация есть в какой-то мере схематичное, упрощенное описание того или иного объекта, которое должно строиться на основе главных, сущностных его свойств. В тропах таким главным свойством является именно семантический перенос, осуществляемый по тому или иному способу (по сходству; по смежности или связи; по контрасту). Перенос приводит к расширению значения слова194.
194
М. Л. Гаспаров, иначе понимая «расширение значения», предлагает добавить его к семи античным тропам (это метафора, метонимия, синекдоха, ирония, эмфаза, гипербола, мейосис, перифраза) в качестве восьмой группы, которая позволяла бы объяснять индивидуальные ассоциации, обосновывающие необычные значения слов, как во фразе Наташи из «Войны и мира»: Безухов – тот синий, темно-синий с красным, и он четвероугольный. Исследователь пишет, что античная стилистика «избегала таких приемов: ведь, по существу, это привело бы к размыванию значения слова, неопределенности и в конечном счете непонятности» [Гаспаров 1997: 576577]. Расширение значения и размывание значения – нетождественные явления. Существует термин «приемы "размывания смысла"», под которым понимают «…специфическое для идеологических текстов нарочитое использование слов без точного понятийно-логического содержания, слов, которые каждым могут быть поняты по-своему, и тем более различаются по значению в различных идеологиях» [Михальская 1996б: 155]. 289
Семантический перенос по сходству Метафору195 как основной троп, основанный на сходстве, считают достаточно глубоко изученным явлением в аспектах философско-гносеологическом, семиотическом, семантическом и ономасиологическом [Солодуб 1999: 67]196. Представленные выше точки зрения на природу тропа соотносятся и с концепциями метафоры, что не случайно, поскольку у Аристотеля понятие метафоры рассматривалось как родовое для всех видов переносов. Все существующие концепции метафоры сводимы к трем точкам зрения, что, по мнению В. Н. Телия, убедительно показал М. Блэк. «Когда в основе концепции метафоры лежит постулат о сходстве двух значений слов (понятий, обозначаемых), то это приводит к "сравнительно-сопоставительному" ее определению. Если в качестве отправной точки выступает положение о том, что метафорическое выражение "стоит вместо" некоторого "буквального" выражения, то такую концепцию метафоры можно определить как "субституционную". В том случае, если исходным в анализе и определении метафоризации лежит ее свойство "совмещать два понятия", то и метафора изучается через призму взаимодействия содержательных аспектов (понятийного, сигнификативного или семантического) неметафорического и метафорического выражений. Это взаимодействие состоит в перенесении и предикации признаков одного, уже существующего и оязыковленного понятия – в другое – оязыковляемое» [Телия 1977: 198]. Добавим, что в рамках неориторики существуют и другие концепции метафоры: метафора как «сгущенная аналогия» [Перельман, Ольбрехт-Тытека 1987: 249] (эта теория метафоры не опровергает сравнительно-сопоставительную концепцию, а модернизирует ее под другим углом зрения); метафора как результат соположения двух синекдох – обобщающей и сужающей [Дюбуа и др. 1986: 194]. Слабость субституционного взгляда на метафору (говорящий вместо одного слова использует другое, сходное по значению, а кон195
Греческому метафора соответствует латинское транслацио и его вариант, который встречается в «Риторике» Макария, – трантланцо [Вомперский 1970: 23]. 196 Обзор различных аспектов исследования метафоры в последней трети ХХ века см. в [Оспарина 2000: 186-203]. 290
текст устраняет неправильности, соответствующим образом трансформируя значение этого слова) В. Н. Телия усматривает в том, что он имеет «чисто семасиологический исход и может объяснить только различие в значении, но не способы структурирования новых единиц языка». Кроме того, исследователь пишет: «…Характеристика "стоять вместо" не подходит, так как метафорические значения способны отображать новые обозначаемые (ср. тяжелое горе ≠ сильное горе, раб страстей – это пациенс весьма определенных состояний, питать, лелеять надежду – это, конечно же, не совсем то, что надеяться, а бережно носить в себе это чувство и т.д. и т.п.)». В целом субституционная позиция, по мнению В. Н. Телия, «далеко не универсальна, так как в силу постулата о замещающей функции, она решает проблему метафоры скорее с точки зрения употребления значений, чем в плане "сотворения" новых значений, выявления специфики метафоры как "иносказания"» [Телия 1977: 199]. Сравнительную концепцию метафоры В. Н. Телия характеризует как более распространенную [там же]. Очевидно, распространенность этой концепции обусловливает и широкую распространенность сравнительной концепции тропа в целом. Согласно данной концепции, «метафора – это всегда сравнение, по большей части э лл и п т и р о в а н н о е с р а в н е н и е» [там же] и «воспринять метафору – значит открыть аналогию или сходство, а тем самым как бы повторить путь автора (или использующего метафору)». Сравнительная концепция может быть, по мнению В. Н. Телия, определена как «частный случай субституционной версии: и с той и с другой точки зрения метафора замещает то, что обозначает буквальное значение другого выражении. Главное различие этих точек зрения состоит в том, что метафорические выражения типа Он – медведь, медвежья походка и т.п. в субституционной концепции рассматривается как Он – неуклюж, неуклюжая походка, а в сравнительной – Он – как медведь, у него походка, как у медведя» [там же: 200]. Однако, как рассуждает далее исследователь, трудно определить подобие и подыскать "буквальный аналог" для метафор типа В колодец ее обалделого взгляда Бадьей погружалась печаль или Заря, как клещ, впилась в залив (Б. Пастернак) или для таких языковых метафор, как завязать разговор, тень сомненья, железная воля. В. Н. Телия соглашается с утверждением М. Блэка о том, что метафора принадлежит скорее прагматике, чем семантике, и пишет: «Поэтому при моделировании феномена метафоры трудно (если не 291
невозможно) сформулировать правила, как "сделать" конкретную метафору, но возможно выявить общий принцип метафоризации» [там же: 201]. Именно этот аспект – выявление общего принципа метафоризации – исследуется, как отмечает В. Н. Телия, во «взаимодействующей» версии метафоры, которая была выдвинута американским логиком М. Блэком – основоположником интеракционистской концепции [Телия 1988: 183] (иначе – интерактивной теории, теории интеракции [Оспарина 2000: 188, 189]). М. Блэк различает рамку метафоры и фокус: «Фокус метафоры, по Блэку, – это то слово или выражение, которое обнаруживает отклонение от обычного значения, а "остаток" предложения, в котором появляется это слово, – рамка». Метафору предлагается мыслить как «фильтр», а ассоциации – «…как своего рода пробелы, дающие видимое изображение и организующие его одновременно таким образом, что "второстепенный субъект" (то, о чем сообщается посредством метафоры) виден через свойства "главного субъекта", что они "проектируются" через этот фильтр на второстепенный субъект» [Телия 1977: 201]. Так, в высказывании Man is a wolf, по М. Блэку, эффект метафоры состоит в том, что слово волк вызывает всю систему обычных ассоциаций, связываемых с этим хищником. В результате ассоциаций человеческие черты, связанные со вспомогательным субъектом, становятся выпуклыми, а черты, неприложимые к человеку, погашаются, что организует представление о человеке, называемом волком. «В этом и состоит качество метафоры: она создает сходство за счет д в у п л а н о в о с т и – приложения к двум субъектам одновременно, так что свойства того, о ком идет речь, просматриваются через свойства того, чьим именем он обозначается. Такого рода взаимодействие создает систему двух понятий об одном субъекте. Метафора организует, вбирает и устраняет признаки главного субъекта посредством утверждения о нем того, что нормально приложимо к вспомогательному», она создает сходство [там же: 202]. В качестве примера, раскрывающего технику метафоры, В. Н. Телия приводит уже обозначенную нами выше строку Б. Пастернака Заря, как клещ, впилась в залив, где оба субъекта представлены в форме сравнения, за которым стоит атрибуция главному субъекту – заре – свойств вспомогательного субъекта – клеща. Обычное действие вспомогательного субъекта – впиваться – становится фокусом подготовленной метафоры. «Поскольку метафора обладает свойством сама себя развивать и усиливать за счет имплика292
ции свойств обоих субъектов, она способна распространяться». Таким образом, «при метафоризации, – делает вывод исследователь, – важен "первый шаг" – обретение мотива для предикации обозначаемому несобственных для него признаков. Остальные шаги интерференции соответствуют модели этого процесса, изложенной Блэком» [там же: 203]197. Е. В. Падучева считает, что обычное определение метафоры как переноса по сходству «никуда не ведет» [Падучева 2004: 190]. Как и В. Н. Телия, она признает «лингвистическую проницательность» Блэка в описании механизма метафоры и считает, что метафора есть категориальный сдвиг, что соотносится со следующим наблюдением В. Н. Телия: «Признаки, обозначаемые словом, используемым в качестве имени, и признаки нового обозначаемого не должны быть "слишком" близкими – в этом случае метафора не будет иметь должного эффекта . Иначе говоря, "реальные" свойства того, что обозначается метафорически, и того, посредством чего обозначается, должны быть для создания хорошей метафоры максимально разведены по разным сферам наличного бытия или структуры мышления» [там же: 204]. Способом преодоления этой несовместимости в структуре мира или мышления о мире и является обращение мысли к аналогии (выводу о наличии сходства через гипотетическое подобие), частным случаем которой, по мнению В. Н. Телия, является сопоставление, лежащее в основе сравнения (ср. с противоположной точкой зрения И. В. Пекарской, которая была изложена нами выше и в соответствии с которой аналогия является частным случаем сравнения). О том, что метафора возникает тогда, когда между сравниваемыми, сопоставляемыми объектами имеется больше различного, чем общего, писала и Н. Д. Арутюнова. Она заметила, что «перенос названия внутри естественных родов, т. е. в рамках стереотипа класса, обычно не расценивается как метафора», что метафора «сравнивает несопоставимое – элементы разной природы» [Арутюнова 1998: 197
В то же время Г. Н. Скляревская отмечает, что содержимое метафоры далеко не всегда легко разложить на «фокус» и «рамку», напр.: На стекла вечности уже легло Мое дыхание, мое тепло (Мандельштам), Большая вселенная в люльке У маленькой вечности спит (Мандельштам) [Скляревская 1993: 35]. 293
367]. Она возникает «на границах различных семантических полей» [Чернец 2001: 11] «Метафора, – пишет Н. Д. Арутюнова, – рождается в результате взаимодействия гетерогенных сущностей – объектов действительности (основного субъекта метафоры) и некоторых представлений, ассоциируемых со вспомогательным субъектом, с некоторой признаковой категорией, которая может совпадать или не совпадать со значением метафоризируемого слова» [Арутюнова 1998: 369]. Метафора создается путем передачи основному субъекту признаков вспомогательного субъекта. Причем «чем дальше отстоят друг от друга противополагаемые разряды объектов, тем ярче "метафорический сюрприз" от их контакта». Однако у метафоры есть и ограничения: «…устанавливаемые ею отношения не выходят за пределы чувственно воспринимаемой реальности, иначе бы она утратила главное из своих свойств – образность» [там же: 383]. Таким образом, современные исследователи (В. Н. Телия, Е. В. Падучева, Н. Д. Арутюнова и др.) объясняют проблему выбора имени – будущего «фокуса» метафоры», что не было сделано М. Блэком. Сущность метафоры они видят в категориальном сдвиге и – как следствие – в семантической транспозиции. Совмещение в метафоре сущностей разных логических порядков и онтологически гетерогенных оказывается возможным, как отмечает В. Н. Телия, благодаря свойственному ей принципу фиктивности, действующему вкупе с принципом антропометричности. Антропометричность проявляется не только в способности человека допускать подобие гетерогенных сущностей, его осознании себя мерой всех вещей, но и в его ориентации на фактор адресата – способность адресата разгадать метафору, эмоционально воспринять образ, соотнося его со шкалой реакций, детерминированных национальнокультурными и вербально-образными ассоциациями [Телия 1988: 189]. Основанием антропометричности является допущение подобия (или сходства) формирующегося понятия о реалии и некоторого образно-ассоциативного представления о другой реалии. Это допущение является «м о д у с о м метафоры, которому можно придать с т а т у с к а н т о в с к о г о п р и н ц и п а ф и к т и в н о с т и, смысл которого выражается в форме "как если бы"» (Х как если бы Y) [там же 1988: 186]. Итак, основной принцип продуцирования метафоры – принцип семантической двуплановости (совмещения в слове 294
двух представлений об объекте действительности / двух значений), являющийся следствием действия принципа транспозиции (категориального сдвига, переноса названия / значения) – приписывания главному объекту признаков вспомогательного объекта на основе принципа фиктивности (допущения о подобии (или сходстве198) онтологически гетерогенных сущностей). Тем самым метафора – прием, продуцируемый на основе нескольких принципов, которые должны найти отражение в его определении199. Причем названные принципы характеризуют объект с разных сторон: принцип фиктивности и принцип транспозиции – с позиций адресанта (тех действий, которые он предпринимает для создания тропа), принцип семантической двуплановости – в аспекте получаемого результата, эффекта (оказания воздействия на адресата). По своей сути метафора является синкретичным приемом, но принципы построения реализуются не одновременно, а последовательно, что позволяет рассматривать метафору в рамках системы РП по последней сущностной операции, которую осуществляет адресант, отклоняясь от нормы, – по оператору семантического переноса (транспозиции).
198
О разных типах сходства в метафоре см. в [Кудрявцева 1988]. Поэтому определение метафоры, данное Н. Д. Арутюновой, более предпочтительно, по сравнению с определением метафоры как переноса по сходству: метафора – «…троп или механизм речи, состоящий в употреблении слова, обозначающего нек-рый класс предметов, явлений и т.п., для характеризации или наименования объекта, входящего в др. класс, либо наименования др. класса объектов, аналогичного данному в к.-л. отношении» [БЭС 1998: 296]. Как механизм речи описывается метафора (метафорический процесс) в когнитивной теории. В ней утверждается, что метафора основана на взаимодействии двух структур знаний – когнитивной структуры «источника» и когнитивной структуры «цели»: в процессе метафоризации области цели структурируются по образцу источника, т.е. происходит «метафорическая проекция» («когнитивное отображение»), «следы» которой обнаруживаются на уровне семантики предложения и текста в виде метафорических следствий. Но «в настоящее время когнитивная теория метафоры не дает ясного ответа на вопрос о том, как, в сущности, происходит сам процесс взаимодействия когнитивной области источника и области цели в процессах метафоризации» [Баранов 2004: 9]. Подробно о становлении когнитивной теории метафоры см. [Будаев 2007]. 295 199
Что касается вопроса классификации метафоры, то он в научной литературе освещен достаточно подробно. Обзор различных классификаций дан, напр., в работах [Мерзлякова 2001: 105-109; Москвин 2006а: 165-167]. Отмечают, что деление метафоры на виды «…практически не ограничено в силу того, что каждый исследователь предлагает свой набор. Поэтому совокупность видов часто предстает неупорядоченной» [Никитина, Васильева 1996: 94]. Такая неупорядоченность имеет место, напр., в статье В. И. Шувалова «Метафора в поэтическом дискурсе», в которой выделяются шесть типов метафоры, как нам думается, без соблюдения единого основания: предикативные, атрибутивные, композиционные, генитивные, глагольные и препозициональные метафоры [Шувалов 2006: 59]. Множество классификаций метафоры породило и многочисленные терминологические обозначения. Выделяются и описываются метафоры: языковые (стертые, сухие, ослабленные) – живые, авторские (индивидуальные); замкнутые (или бинарные, двучленные, метафоры-сравнения) – незамкнутые (или гипокатастасис, метафоры-загадки, симфоры, одночленные метафоры); номинативные – декоративные – оценочные – образные – когнитивные, концептуальные – индикативные; антропоморфные – зооморфные – флористические – пространственные; предикатные – субстантивные – адъективные и др. Описание и анализ различных классификаций метафоры – предмет отдельного исследования. Нас же интересует тот факт, что типами метафоры нередко называют олицетворение (персонификацию), катахрезу и синестезию. Рассмотрение этой проблемы в данной работе нам видится принципиально важным, так как имеет непосредственное отношение к общей классификации тропов. При создании метафоры наиболее типичными (см., напр., [Античные теории… 1996: 232; Ломоносов 1952: 215-216; ЭК 2005: 369370; Хазагеров, Лобанов 2004: 228]) считают следующие четыре случая: 1) перенос свойства от живого к живому (живое уподобляется живому): Только этого Шухов и ждал! Теперь-то он, как птица вольная, выпорхнул из-под тамбурной крыши – и по зоне, и по зоне! (А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича); Интеллигенция присягнула мальку (Завтра. 2000. № 3) – об одном из политиков; 2) перенос свойства от неживого к живому (живое уподобляется неживому): – Привет! Тебя почему на первой ленте не было, а?! / 296
– Да я продрыхла. Я ваще такой овощ… Мне так все лень… (из разг. речи); 3) перенос свойства от живого к неживому (неживое толкуется как живое): «Наше» было живое, а «ихнее» мертвое. Мертвая проволока, мертвые окопы, мертвые люди в снегу, мертвые, брошенные орудия и машины (К. Симонов. Живые и мертвые);. 4) перенос свойства от неживого к неживому (неживое уподобляется неживому): Это проблема. Острая и наболевшая (СГ. 27.02.1999). Детально разработана классификация переносов в языковой метафоре Г. Н. Скляревской, которая выделяет регулярные и нерегулярные типы. Среди нерегулярных типов переносов животное → предмет, животное → животное, животное → психический мир, человек → животное, физический мир → физический мир [Скляревская 1993: 93-98]. Наделение неживых предметов признаками живых, в том числе признаками человека, именуют одушевлением, анимизацией или (чаще) олицетворением, прозопопеей, персонификацией, персонализацией, антропоморфизмом. Уподобление живого неживому называют деперсонификацией, овеществлением [Федоров 1971: 135], антиолицетворением [Пекарская, Амзаракова 2003: 84]. Метафора – уподобление живого живому же, по мнению Т. Г. Хазагерова и И. Б. Лобанова, «не получила особого названия» [Хазагеров, Лобанов 2004: 229]200, как и метафора, связанная с уподоблением неживого неживому. Олицетворение большинство исследователей рассматривают как разновидность метафоры [Елисеев, Полякова
200
В качестве примера приводится высказывание, в котором человек сравнивается с пауком: Десятки лет сосал их силы управляющий, десятки лет с сатанинской хитростью опутывал их сетью условий, договоров и неустоек (Ф. Н. Плевако) [Хазагеров, Лобанов 2004: 229]. Этот пример в рамках тематической классификации метафор, описанной В. П. Москвиным, подходит под описание зооморфной метафоры, которая основана на сравнении с животным [Москвин 2000: 124], а также под описание приема бестиализации – типа метафоры, основанной на перенесении свойств животного на человека [Ганеев 2004: 319]. Перенесение свойств животного на человека именуют также антиперсонификацией [Пекарская, Амзаракова 2003: 84]. 297
2002: 129; Матвеева 2003: 195; Русова 2004: 151; Стариченок 2002: 169; Брандес 1983: 142 и др.] 201. Для олицетворения, как и метафоры, характерен принцип фиктивности – допущения подобия (или сходства) онтологически гетерогенных сущностей. Этот принцип характеризует содержательную сторону приема и является основным (ведущим, доминантным), т.е. постоянно организующим, составляющим суть его семантической модели. Однако степень фиктивности, как и степень очеловечивания (антропоморфизма), в конкретных реализациях этого приема различна. Сравним следующие два высказывания: 1) Воротничок уже довольно пожил на свете и наконец стал подумывать о женитьбе (Г. Х. Андерсен) и 2) …На краю лощины тесно селились березы, щекоча друг друга ветками (А. Соболев). В первом случае человеческая способность (способность мыслить) приписывается неодушевленному артефактному предмету – воротничку, причем все слова употребляются в их прямом значении (это подтверждает мысль Е. А. Некрасовой о том, что олицетворение не связано с семантическим сдвигом [Очерки… 1994: 14]), что влечет за собой несочетаемость слов202 и создает яркий параонтологический эффект (эффект неправдоподобия описываемой ситуации). Во втором случае действия человека (выбора определенного места жительства, щекотания) приписываются дереву – березе; при этом лексемы селились, щекоча используются в переносном значении (селились – «произрастали», щекоча – «затрагивая друг друга»), что значительно снижает (а в некоторых контекстах и снимает) степень параонтологичности приема. Применительно к этому случаю может возникнуть вопрос о правомерности его квалификации как олицетворения, если под ним понимать наделение предмета не просто признаками живого существа, а человеческими признаками, свойствами. Если способность думать, говорить, безусловно, свойственна только человеку (первый 201
Подробно разные точки зрения на проблему определения лингвистического статуса олицетворения, понимания сути этого приема и его терминологические обозначения изложены в [Копнина 2005]. 202 Нарушено «правило естественного соединения семантикограмматических категорий» [Золотова 2005: 59]: существительное воротничок относится к категории неодушевленных предметов и поэтому не может сочетаться с глаголом действия (акциональности), активного и намеренного. 298
пример), то способность выбирать место жительства характерна не только для человека, но и для других живых существ, в частности животных. Думается, что применительно к таким случаям можно говорить об ослаблении, или контекстуальной нейтрализации, антропоморфных признаков. Используя метод эксперимента, изменим контекст рассматриваемого олицетворения: На краю лощины тесно селились березы, щекоча друг друга ветками и что-то нашептывая. В этом высказывании антропоморфичность актуализируется за счет глагольной формы «нашептывая». Представленный во втором примере тип олицетворения называется в научной литературе по-разному: антропоморфной метафорой, метафорическим олицетворением, олицетворяющей метафорой. В обоих сравниваемых высказываниях (Г. Х. Андерсена и А. Соболева) в рамках синтагмы совмещаются компоненты, не совместимые с точки зрения реальных предметных отношений (воротничок – мысли о женитьбе; береза – выбор места жительства – щекотание; происходит рассогласование – В. Г. Гак), но во втором случае это рассогласование приводит к изменению значений слов на основе ассоциаций, возникающих между понятиями. Таким образом, нарушение правдоподобия происходит здесь за счет механизма ассоциативно-смыслового рассогласования. Именно об этом пишет К. Константинова, отмечая, что семантическое согласование в олицетворении – «явление временное, "условное"» [Константинова 1997: 91]. Не всякий перенос признаков с одного явления на другое при осмыслении действительности приводит в процессе порождения текста к появлению у него или у его единицы (единиц) переносного значения, то есть семантической двуплановости. В. П. Москвин олицетворение рассматривает в группе метафорических фигур, отграничивая его тем самым от «приемов нарочито неправдоподобного описания», среди которых он выделяет гиперболу, литоту, прием реализации метафоры (в том числе антропоморфной) и амфигурию. «Неправдоподобными, – пишет он, – принято считать описания событий, явлений и фактов с точки здравого смысла невозможных, нереальных» [Москвин 2000: 44]. Трактовка олицетворения как разновидности метафоры связана не только с частотностью случаев конвергенции (взаимодействия, совмещения) этого приема с метафорой, но и с традицией, идущей еще со времен античности, когда олицетворение не выделялось в качестве самостоятель299
ного приема, а рассматривалось в рамках метафоры, о чем свидетельствует, например, следующая цитата: «Особую возвышенность придают речи метафоры, употребленные в смелом и почти рискованном значении, когда мы приписываем способность действовать и влагаем душу в предметы, лишенные способности чувствовать» (Квинтилиан) [Античные теории… 1996: 232]. Однако, как мы увидели выше, не всякое олицетворение является метафорой, хотя «зона пересечения метафоры и О. достаточно велика» [Никитина, Васильева 1996: 99]. Тем не менее для олицетворения (приема, состоящего в ассоциативном перенесении свойств, качеств человека на предметы, природные явления, абстрактные понятия, животный и растительный мир) принцип семантической двуплановости оказывается рецессивным (вспомогательным): он проявляется только в случае наложения олицетворения на метафору (метафорическое олицетворение, или «олицетворяющая метафора» – [Постникова 1974: 69]) или метонимию (метонимическое олицетворение) 203. Напр.: (о деревьях) Тут были и статные красавицы во цвете сил, и могучие старцы, украшенные, как медалями, зеленоватыми бляшками лишайников, и хилые болезненные инвалиды с заросшими следами от топора бездушного человека, который ради глотка березового сока не постыдился поранить дерево (Н. Волков. Не дрогнет рука) – метафорическое олицетворение; Дрался Гришка с Мишкой. Замахнулся книжкой, Дал разок по голове – Вместо книжки стало две. Горько жаловался Гоголь: Был он в молодости щеголь, А теперь, на склоне лет, Он растрепан и раздет. (С. Маршак) – метонимическое олицетворение. Вопрос о соотношении катахрéзы и метафоры решается поразному, поскольку катакреза (катахреза, катахреса, катахрезис, ка203
Метафорическое и метонимическое олицетворения – результат наложения приемов. Фигуры (любые средства, придающие речи образность и выразительность), которые образуются путем контаминации (аппликации) одной фигуры на другую, И. В. Пекарская называет «гиперфигурой» [Пекарская 2000б: 235]. 300
тахресис)204, – термин, не имеющий однозначного толкования. Он используется преимущественно в трех значениях205: 1) речевой недочет, состоящий в семантически неоправданном сочетании слов: стройные губы, волнистые глаза [Береговская 2004: 54]; 2) лексикализированный троп: красные чернила, путешествовать по морям, лист бумаги, крылья мельницы – т.н. «обиходная катахреза» (катахреза с угасшей внутренней формой) [Москвин 2000: 120]206; 3) «сти204
В качестве синонима катахрезы Т. Г. Хазагеров и Л. С. Ширина приводят термин «абузия», при этом катахреза трактуется как употребление слов «…в значениях, не принадлежащих им с предметно-логической точки зрения, обычно в силу того, что сопоставляемые предметы и явления отражаются в сознании, поступая по совершенно разным каналам восприятий, объединяемых лишь на основе общего впечатления и оценки» [Хазагеров, Ширина 1999: 235] (по сути – синестезия). Как синонимы используются термины «катахреза» и «абузия» в [Античные теории… 1996: 236]. У В. П. Москвина же абузия (вынужденная метафора, ломаная метафора) – вид катахрезы, состоящий в рассогласовании внутренних форм метафорических наименований: В безмолвии ночном живей горят во мне змеи сердечной угрызенья (А. С. Пушкин), Он засыпал меня потоком слов [Москвин 2006а: 39]. Другим видом катахрезы названо «противоречие между внутренней формой слова одного и смыслом другого слова: Стой, братцы, стой! Ведь вы не так с и д и т е! (И. А. Крылов. Квартет); Литературные вечера народного артиста СССР В. И. Качалова. 20 (вечером) и 21 (днем) (Афиша); страшная красавица» [там же: 128]. Первые две иллюстрации этого вида катахрезы можно трактовать как псевдопаралогические конструкции, а третью – как оксюморон. Совершенно иначе определялся катахресис в истории риторики: «перемена речений на другие, которые имеют близкое к ним знаменование…» (брать вм. выговаривать, нахален вм. застенчив, хитр вм. лукав, бежать вм. идти и т.п.) [Ломоносов 1952: 219]. 205 В истории риторики термин «катахреза» (синоним – абузио) понимался по-разному: от обозначения случаев заполнения словарной лакуны, употребления слова в неточном значении до сочетания слов, значения которых связаны с разными предметно-логическими сферами (см. об этом [Щаренская 2005]). О катахрезисе как всяком неудачном употреблении тропа см. в [Общая реторика 1844: 91] 206 В рамках этого подхода катахрезу рассматривают в диахронии как «переносное наименование, которое является единственным для данного объекта» [Хазагеров, Лобанов 2004: 231]. Понимание катахрезы как переноса на предмет, не имеющий названия, характерно для античности и более поздних времен. Квинтилиан писал: «…Катахреса применима там, где на301
листический прием, который состоит в сочетании слова в переносном значении (метафоры или метонимии) со словом, имеющим прямое значение»: В вареную круто погоду, / В самый жареный час / Сырая масса народу / В песке на пляже пеклась (О. Григорьев) [Береговская 2004: 54-55]; «троп, состоящий в употреблении слов в значениях, им естественно не принадлежащих, часто как разновидность гиперболической метафоры. Русск. Он глотнул глазами пространство » [Ахманова 2004: 189]. Исследователи, определяющие катахрезу как метафору, имеют в виду второе значение термина «катахреза» (см., напр., определение М. Л. Гаспарова в [ЛитЭС 1994: 558])207. Использование термина «катахреза» в первом значении считаем нецелесообразным, так как соответствующее явление уже терминировано («лексическая несочетаемость» как речевая ошибка), как и во втором значении («языковая метафора»). Поэтому согласимся с мнением А. П. Сковородникова, предлагающего оставить термин «катахреза» за обозначением РП, основанного, как и оксюморон, на принципе мотивированного отклонения от норм лексической сочетаемости. Но если оксюморон – это сочетание слов, обозначающих логически несовместимые понятия (понятия, противоречащие друг другу, что нарушает логический закон противоречия), то катахреза – «сочетания слов, выражающих понятия, которые находятся не в отношении противоречия (в логическом смысле), а в отношении онтологической несовместимости. Такие слова не являются антонимами, они выражают понятия, референты которых не соотносятся в реальной действительности (лежат в разных "онтологических плоскостях") [Сковородников 2005а: 71]208. звания вовсе не было, а метафора – где одно название заменяется другим. Поэты часто пользуются катахрестически близкими наименованиями для обозначения и тех предметов, у которых есть свои собственные» [Античные теории… 1996: 237]. В таком же значении этот термин используется в [Падучева 2004: 202]. 207 В соотношении катахрезы и метафоры вообще нет порядка. Если одни исследователи считают катахрезу разновидностью метафоры, то другие определяют ее как понятие, фактически тождественное метафоре: катахреза – «метафора, редко используемая как стилистический прием или, наоборот, привычная ("ножка стола", "зеленый шум", "есть глазами") и непривычная…» [Елисеев, Полякова 2002: 78]. 208 Подобного разграничения катахрезы и оксюморона придерживается Э. М. Береговская. От катахрезы оксюморон, по ее мнению, отличает «обя302
Основной признак катахрезы – «онтологическая несовместимость референтов сочетающихся слов в их прямых значениях» [там же: 72]. Заметим, что этот признак характерен и для «живой» метафоры. Не случайно А. П. Сковородников пишет, что «к катахрезе следует отнести метафорическое олицетворение», и приводит такие его примеры: Голос ее глотало тяжелое, спокойное молчание. Даже в лесу с отдаленно багровевшими верхушками не отзывалось обычное эхо (А. Серафимович); В душе моей нестройным хором кричали вопросы, чуждые духу этой славной женщины» (М. Горький). Вопрос о разграничении метафоры и катахрезы нельзя назвать решенным, особенно если учесть, что всякая метафора по своей природе параонтологична (является результатом взаимодействия гетерогенных сущностей). В основе процесса метафоризации как переноса всегда лежит сходство, подобие гетерогенных сущностей. Например, в следующем фрагменте из стихотворного текста «Живописное обозрение» Г. Оболдуева: Стеклянные бусы смородин; Карамельные пузики крыжовников; Мокрые губки малин; Близкие глаза вишен; Выпуклые лбы клубник; Загорелые лысины яблок; Отекшие окорочка груш; Распухшие гланды слив; Веснущатые носики земляник; Выдавленные капли костяник; Пресное сусло черник; Горьковатые пригорки брусник; зательная контрастность диссонирующих компонентов, которые сливаются в единое понятие: Теперь себя я не обижу: / Старею, горблюсь, – но коплю Все, что так нежно ненавижу / И так язвительно люблю (В. Ходасевич)» [Береговская 2003: 115]. Такое же соотношение катахрезы и оксюморона представлено в [Якутина 2003: 108; Якутина 2007: 171; Галеев 2007: 317]. В соответствии с другой точкой зрения, катахреза – разновидность оксюморона – фигуры, сочетающей контрастные по значению слова [Пекарская 2000б: 148]. 303
Раскаленные ячмени волчьих ягод; Вяжущая сладость можжевельников. Перед нами многочисленные метафорические сравнения, основанные на индивидуальных ассоциациях поэта. Ср.: спелые (прозрачные, как стекло) ягоды смородин, напоминающие бусы; светлокоричневые, как карамель, и выпуклые, как пузики, ягоды крыжовника; мокрые (сочные) ягоды малин, которые, когда их сорвешь, по форме и цвету похожи на открытые губки; близко висящие друг от друга вишенки, круглые, как глаза, и т.д. Или: Мир, кажется, зачитан и залистан – / А все же молод, молод все равно! / Еще не раз любой из древних истин / В грядущем стать открытьем суждено (Л. Филатов. Открытие) – контекст подсказывает, что слова зачитан и залистан используются в переносном значении: «хорошо изучен». А. П. Сковородников замечает, что «возможно такое сочетание слов с онтологически несовместимыми референтами, при котором "рождение" тропа представляется проблематичным». В качестве доказательства приводится высказывание из Вен. Ерофеева: Они все раскачивались и плакали, а внучек – тот даже заморгал от горя, всеми своими подмышками… Такие сочетания слов, по мнению исследователя, можно именовать «катахрезой нетропеической разновидности» [там же: 72]. Полагаем, что в приведенном примере можно усмотреть метафорическое употребление сочетания заморгал подмышками в значении «быстрое движение руками вверх-вниз» (по сходству с движением ресниц). Ср.: …заморгал от горя всеми своими подмышками, как глазами. Иногда сочетание слов кажется настолько необычным, что его не сразу можно мотивировать, напр.: Я сидел на табурете и отдирал Россию, как пластырь от своей ноги (В. Ерофеев. Энциклопедия русской жизни). В составе сравнительной конструкции сочетание отдирал Россию, казалось бы, является катахрезой, так как между Россией и пластырем трудно найти что-то общее. Однако можно предположить, что писатель пытается заставить себя не думать о России, так как мысли о ней (как пластырь, который трудно отодрать) доставляют ему страдания. Поэтому вся сравнительная конструкция может быть осмыслена следующим образом: Я сидел на табурете и отдирал Россию (отрывал от себя воспоминания, отстранял мысли о России), и это было так тяжело, как отодрать пластырь от своей ноги. Следовательно, перед нами сочетание метафо304
ры и метонимии. Сочетание пластырь от своей ноги здесь выступает как «рамка» для понимания «фокуса» метафоры (отдирал). Катахрезой, очевидно, можно называть РП, основанный на таком сочетании слов с онтологически несовместимыми референтами, которое, в отличие от тропов, трудно мотивировать209, и поэтому оно (сочетание слов) не обязательно сопровождается появлением переносного значения (семантической двуплановостью). Напр.: Так – я стою. Энергично стою, весело (М. Зощенко. Голубая книга); По ночам в саду пустом / дышит темнота (В. Урусов); Лучшие в стране рты не закрываются ни на секунду: хрумкают, лузгают, щелкают, посапывают, слушают ртом (М. Жванецкий. Одесса) – ср.: слушают, раскрыв рот (катахреза здесь – результат эллипсиса в синтагматической цепи); Завяжу узелок я на солнечном тонком луче / и тебе подарю, чтобы помнила, даже на ощупь… (Ю. Лебедь). В последнем примере луч ассоциируется с ниткой, на которой можно завязать узелок, однако эта ассоциация по аналогии не приводит к появлению у слов (луч, узелок) переносного значения. Если принять такое понимание катахрезы, то следует признать, что этот прием не является тропом. Конечно, можно предположить, что под солнечным лучом понимается нить, похожая по цвету на солнце, и усмотреть в тексте метафору (человеку вообще свойственны попытки интерпретировать аномалии), однако это приведет к разрушению поэтичности строк, которые можно трактовать иначе – как я готов совершить самый необычный поступок, чтобы ты меня помнила. Кроме того, метафора может быть однословной, а катахреза всегда двучленна. Ее морфосинтаксические модели описаны Э. М. Береговской [Береговская 2003: 112-114]. Правда, пример модели V+Pr, который приводит исследователь, мы к катахрезе не относим: Свеча горела так радостно, так мне горела (А. Герцен). Существует точка зрения, согласно которой тропом метафорического типа, помимо олицетворения и катахрезы, является синесте-
209
Выдвигается предположение, что различие между собственно метафорой и катахрезой заключается в разной плоскости применения «принципа фиктивности»: в катахрезе этот принцип доведен до максимума, что проявляется в неочевидности мотивации ассоциативной связи для реципиента [Сковородников 2008: 254]. 305
зия (cм., в частности, [Клюев 1999: 189])210. Этот прием представляет собой сочетание слов, обозначающих реалии, восприятие которых осуществляется разными органами чувств: …Зинаида приволокла к церкви свое жидкое, стекающее книзу волнами, скорбное тело… (Л. Улицкая. Народ избранный). Однако синестезия может быть как метафорической211, так и метонимической. Более того, возможно наложение метафорической и метонимической синестезии. Ср., напр.: а) …Слышал тонкий запах ее волос, и меня волновал даже гладкий и нежный мех соболя на ее шее (И. А. Бунин. Антоновские яблоки) – метафорическая синестезия (слышал в знач. «чувствовал» – языковая метафора; дается с пометой разг. в [Ожегов, Шведова 2003: 733]); в) Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадишь вспененную, хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины (И. А. Бунин. Антоновские яблоки) – одновременно и метафорическая, и метонимическая синестезия (ср. вдыхаешь ледяной сырой воздух долины).
210
И. В. Арнольд отмечает, что синестезия как явление перехода из сферы, воспринимаемой одним органом чувств, в область другого чувства подробно исследована С. Ульманом [Арнольд 2002: 120]. Термином «синестезия» обозначают не только прием, но и «…феномен восприятия, состоящий в том, что впечатление, соответствующее данному раздражителю и специфическое для данного органа чувств, сопровождается другим, дополнит. ощущением или образом, часто характерным для другой модальности» [БЭС 1998: 166]. Как феномен восприятия синестезию рассматривают в качестве психофизиологической основы звукосимволизма. Именно в этом смысле описывает синестезию у Хлебникова, Рембо и Скрябина Вяч. Вс. Иванов в книге «Лингвистика третьего тысячелетия: Вопросы к будущему» [Иванов 2004: 145 и след.]. 211 Изучению синестетических метафор русского языка посвящена работа [Степанян 1987]. Типы синестезии, выделяемые на основе межчувственных сопоставлений, описаны в [Блинов 1980]. Описание метафорической синестезии (метафоры, возникшей в результате смешения чувственных восприятий: сладкая мелодия, жидкие аплодисменты, прозрачные звуки и т.п.), закрепившейся в языке, под термином «синкретическая языковая метафора» можно найти в работе Г. Н. Скляревской «Метафора в системе языка [Скляревская 1993: 52]. 306
Из-за способности синестезии «отливаться» в форму других приемов, ею называют любые тропы и стилистические фигуры, в которых наличествуют межчувственные (межсенсорные, интермодальные) сопоставления [Галеев 2004]. К тропам, основанным на принципе сравнения, относят также перифразу, гиперболу и литоту (мейозис) (напр., в [Пекарская, Амзаракова 2003: 85]), которые не обязательно связаны с переносом лексического значения. Гипербола (преувеличение большого) и мейозис (преувеличение малого)212 не обязательно метафоричны, ср.: Ужасна людей муравьиная жизнь – И вспенена, и скудна. Вот будет еще одни шанс для души – Тогда я вселюсь в слона. Я буду огромным, носатым слоном В тройной человечий рост. С ногами-столбами и мощным хвостом, Ушами – до самых звезд (Д. Уланова. Буду слоном!); Я дошел до большой реки и напился воды из нее, и губы мои начали слипаться от сладости, превосходящей сладость меда и медовых сот (М. Шишкин. Венерин волос) – пример А.П. Сковородникова [Сковородников 2007б: 43]. К числу тропов, с которыми метафора находится в системных отношениях, относят сравнение, метаморфозу и метонимию [Арутюнова 1998: 353]. Со времен Аристотеля широко распространена трактовка метафоры как «укороченного сравнения» (Квинтилиан) [Античные теории… 1996: 232], или «скрытого (имплицитного) сравнения», «сокращенного сравнения» [Арнольд 2002: 124; Филиппов, Романова 2002: 120; Горшков 1996: 120; Зарецкая 1998: 395 и др.]. Однако такую трактовку не без оснований признают неточной (далеко не каждая сравнительная конструкция может быть «сокращена» в метафо-
212
Такое осмысление гиперболы было представлено еще в «Опыте риторики» И. С. Рижского: «Когда сочинитель д а ж е до невероятности увеличит, или уменьшит своим выражением то, о чем он говорит, то сей троп есть гипербола…» [Русская словесность 1997: 20]. 307
ру, и далеко не каждая метафора может быть развернута в сравнительную конструкцию [Черкасова 1968: 34]). Сравнение традиционно рассматривали в составе тропов или как фигуру, которая занимает «промежуточное положение» между фигурами замещения (тропами) и фигурами совмещения, оговаривая, что в сравнении «перенос значения осуществляется на основе прямого, а не косвенного значения слова» [Брандес 1983: 144]. Между тем в основе сравнения – перенос не значения, а перенос свойств, признаков с одного явления на другое. В специальной литературе описаны способы грамматического оформления сравнения213 при помощи следующих средств: – «формальных выразителей мыслительного акта уподобления» [Скребнев 1975: 147]: союзов как, словно, будто, подобно, как будто и др. (сравнительных оборотов, придаточных предложений с этими союзами), слов напоминать, походить, казаться, словосочетаний типа быть похожим и т.п.: Избы стоят нахохлившись, как вороны в непогоду (Гр. Федосеев. На поднебесной вершине); …И разум, словно бомж в помойке, роется, / Совсем не там отыскивая суть (С. Хомутов); В невеселые мысли свои погрузился, / будто я опустился на дно океана, / где от времени камень в песок превратился, / а песок стал густым-прегустым, как сметана (В. Салимон); Все в лесу ее радовало и занимало: невнятное бормотанье тетерева, косой полет белки-летяги, похожей на скользящий по воздуху пушистый платочек (В. Волков. Не дрогнет рука); – родительного падежа [Москвин 2006а: 206]: …Эта краснолицая бабища прыгала на каждую денежную купюру, протянутую нищим, со скоростью ястреба (Хак. 1998. № 83); – оборотов со сравнительной степенью прилагательного или наречия: Россия радикальнее русских. Создание сильнее создателей (В. Ерофеев. Энциклопедия русской души); – творительного падежа существительного: Я отдыхал, приходил в себя, а сверху шуршал крупою и сыпался, сыпался снег (В. Ас213
На основании того, что в метафоре уподобление имплицитно, а в сравнении – эксплицитно, И. В. Пекарская утверждает, что метафора – разновидность сравнения как тропа. Продуктивной является ее идея о том, что сравнение можно рассматривать как «принцип организации изобразительных средств» [Пекарская 2003: 81], на наш взгляд, не обязательно предполагающий отклонение от языковой нормы. 308
тафьев. Последний поклон); Носы были, конечно, гораздо разнообразнее – и свистулькой, и репкой, и фунтиком (Ю. Коваль. Приключение Васи Куролесова); Синее небо усыпано горячими угольками звезд (Гр. Федосеев. Последний костер); – сложного эпитета, образуемого путем свертывания сравнения, типа пшенично-желтые усы (желтые, как пшеница), угольночерная борода (черная, как уголь) [Москвин 2006а: 206, 308]; – отрицания не (отрицательного сравнения214): Судьба не бинт – вокруг пальца не обвести (Шанс. 2008. № 3); – слов так, таков (присоединительного сравнения [Елисеев, Полякова 2002: 229], или развернутого сравнения [Матвеева 2003: 334]): Своим бесстрашным поведением на эшафоте, своим молитвенным стоянием, своей последней молитвой и дарением священного Корана он (Саддам Хусейн. – Г. К.) сломал ритуал, вырвал у врагов метафизическое оружие, направил его против Америки. Так опытный и отважный воин перехватывает летящую в него гранату и успевает кинуть в противника, разрывая его на куски (Завтра. 2007. № 2); – неопределенных сравнений [Голуб 1999: 142]: Ковры, подвешанные на веревках между деревьями, огромные, как взлетные площадки, яркие, пестрые, как… и не с чем сравнить (А. Битов. Книга путешествия); – суффикса –ист-, вносящего значение «подобный чему-либо, что выражается производящей основой» (пенистые облака), аффиксов наречий (воет по-волчьи) [Черкасова 1968: 34]. Как и метафора, сравнение может быть выражено не только словом, но и словосочетанием, предложением и даже сложным синтаксическим целым, поэтому исследователям приходится оговаривать условность отнесения сравнения к лексическим образным средствам (см., напр., [Голуб 1999: 141]). Бесспорно, и метафора, и сравнение построены на одном принципе – принципе сходства (уподобления) признаков предметов. Однако В. Н. Телия соглашается с мнением Г. Шпета: убеждение, что метафора возникает из сравнения, узко и упрощает действитель214
Ср. вполне обоснованное мнение: отрицательное сравнение строится на основе не сопоставления, а противопоставления [Розенталь, Теленкова 2001: 526]; в отрицательных сравнениях явления сопоставляются через отрицание их тождества [Матвеева 2003: 334]. 309
ное положение вещей, если, конечно, сравнение не понимать широко как любое сопоставление. «Думается, что "нерв" метафоры, – пишет она со ссылкой на Уемова, – некое уподобление, имеющее в исходе сопоставление, которое соизмеряет не целостные объекты, а некоторые сходные их признаки, устанавливая подобие на основе совпадения по этим признакам и гипотезы о возможности совпадения по другим, попадающим в этом сопоставлении в фокус внимания». Поэтому «метафора как процесс всегда богаче, чем простое сравнение»: ее модель «…порождает совершенно новые языковые объекты не только репродукцией комбинаторно переменных единиц, но и путем взаимодействия гетерогенных сущностей, участвующих в метафорическом синтезе» [Телия 1988: 183]. Отличие метафоры от сравнения исследователи видят также в следующем. 1. В метафоре степень сопоставленных представлений может быть настолько сильна, что сопоставляемый компонент не всегда достаточно ясно просматривается в сложном представлении [Хазагеров, Ширина 1999: 243-244]. 2. «Метафора сокращает речь, сравнение ее распространяет»; «она избегает объяснений и обоснований» [Арутюнова 1998: 354]. 3. «…Если сравнение указывает на подобие одного объекта другому, независимо от того, является ли оно постоянным или преходящим, действительным или кажущимся, ограниченным одним аспектом или глобальным, то метафора выражает устойчивое подобие, раскрывающее сущность предмета, и в конечном счете его постоянный признак» [там же]. 4. Метафора – это всегда взаимодействие сущностей, это семантически двуплановое образование, в отличие от сравнений, которые в некоторых случаях не имеют отношения к «отклонению от лексического кода». Это устойчивые сравнительные обороты (клише типа голубой как небо, быстрый как ветер, как гром среди ясного неба, крутится как белка в колесе и т.п.) и так называемые «истинные», или «настоящие» [Дюбуа и др. 1986: 209], логические [Скребнев 1975: 148], сравнения типа Она красива, как ее сестра. Сравнения второго типа не имеют никакого отношения к тропам как семантически двуплановым образованиям и не относятся к области стилистики и риторики, поскольку в них сопоставляются однотипные объекты (понятия одного семантического плана). В образных же сравнениях, по мнению исследователей, уподобляются заведомо 310
нетождественные понятия – понятия семантически отдаленных сфер, что сближает их с метафорой. Такие сравнения именуют также художественными [Скребнев 1975: 148], экспрессивными, метафорическими, симиле [Хазагеров, Ширина 1999: 271] и фигуральной аналогией [Москвин 2006а: 206]. В некоторых случаях, как отмечают исследователи, трудно провести формальную границу между образным и логическим сравнением [Хазагеров, Ширина 1999: 271]. 5. И, наконец, не менее важное (пожалуй, даже главное) отличие сравнения от метафоры заключается в том, что значение сравнения выражается с помощью грамматических средств, оно не создается взаимодействием лексических значений [Черкасова 1968: 34; Черемисина 2004: 76 и др.]. В. И. Корольков писал: «…Сравнение не относится ни к фигурам, ни к тропам; это словесная квалификация автологического типа215, основанная на принципе сходства» [Корольков 1973: 72]. По мнению Э. М. Береговской, сравнение не является тропом и потому, что в нем нет субституции означающего [Береговская 1998: 42]. Поэтому оно не обязательно связано с переносом лексического значения. Сравнение относят к тропам216, считая его самостоятельной семантической единицей, очевидно, потому, что оно может накладываться на метафору или метонимию, напр.: Ты небо включил как люстру (Иконников-Галицкий) – пример Л. В. Зубовой [Зубова 2001: 23]. «Образное сравнение» всегда «выливается в форму» какого-то приема, напр.: Тишина была похожа на пшенку в его миске – она была такой же густой и вязкой (В. Пелевин. Желтая стрела) – синестетическое сравнение. Или: И голос. Голос цвета вишневого бархата (Труд. 28 окт. 2000 г.).
215
Автологическое – «семасиологически однопланное» явление, т.е. основанное на употреблении слова в прямом значении. Металогическое – совмещающее в своей структуре прямое и переносное значение, т.е. явление «семасиологически двупланное» [Корольков 1973: 71]. (Ср. более широкое понимание металогии как употребления слов и выражений в их переносном, образном или фигуральном значении в [Квятковский 1998: 181]). 216 Как троп сравнение рассматривается в [Розенталь, Теленкова 2001: 526; Елисеев, Полякова 2002: 227; Русова 2004: 229]; как фигура – в [Ахманова 2004: 450; Волков 2001: 325]. 311
Особый случай – сравнение, выраженное приглагольным существительным в творительном падеже – «творительный сравнительный», или метаморфоза, напр.: Стоит тайга непроницаемой стеной… (А. А. Кузнецова. Честное комсомольское). О необходимости разграничивать метафору и метаморфозу пишет Н. Д. Арутюнова. Отличие метаморфозы от метафоры она видит в том, что метаморфоза «…не отлагается в языке в виде особого способа преобразования значений. Однако и метаморфоза имеет выход в языковую семантику, который открывается перед ней возможностью установления регулярной связи не с субъектом, а с действием субъекта (ср.: бежать рысью, идти гуськом)» [Арутюнова 1998: 357], напр.: Преподаватель, одержав эту небольшую победу, продолжает и дальше бодрой трусцой углубляться в дебри склонений и суффиксов, падежей и слабых предикативных отношений (Н. Замяткин. Вас невозможно научить иностранному языку). «Как только создается такое сцепление, имя адвербиализуется, приобретая новый смысл. В этом случае говорят не о метаморфозе, а об адвербиальной метафоре» [там же]. Тем самым, как отмечает Н. Д. Арутюнова, метафора способна развивать новые и окказиональные смыслы, а метаморфоза нет. «…Метаморфоза как бы отождествляет разные по своей материальной сущности объекты, сравнение лишь сближает их. Метаморфоза и сравнение могут указывать на преходящую связь объектов, причем для метаморфозы этот признак является обязательным, для сравнения – нет» [там же]. Традиционно «творительный сравнительный» рассматривают как разновидность сравнения («сравнение-сопоставление» по [Пекарская, Амзаракова 2003: 83]). Эту точку зрения аргументированно доказывает М. И. Черемисина. По ее мнению, «творительный сравнительный» (термин «метаморфоза» исследователь не использует) есть результат операции «обращения» (ср. река течет и Х течет рекой): «…В составе "эталонной фразы" позицию подлежащего занимает окказиональная, ситуационно обусловленная лексема, "переменная", а вытесненная ею "константа" принимает форму творительного падежа и примыкает к предикату». В результате «именные формы оказываются связаны не только с глаголом, который управляет ими, но и между собой: первое имя принимает кроме синтаксической функции подлежащего функцию прообраза того образа, который выражен второй формой (творительным). Флексия творительного падежа выражает в большей мере именно эту зависимость, нежели 312
зависимость от глагола…». Поэтому к этой форме невозможен отглагольный вопрос «чем?» [Черемисина 2004: 81-82]. Проанализировав около 200 конструкций из художественных текстов, исследователь приходит к выводу, что «творительный сравнительный» реализуется при знаменательных глаголах, описывающих реальные процессы, происходящие с предметами, названными подлежащим. Образность конструкций объясняется тем, что форма существительного в творительном падеже перестает быть именем категории (класса, в который говорящий включает предмет), утрачивает функцию предикатива, но не становится и именем реального предмета, то есть не приобретает того значения, которое свойственно дополнению, а становится именем общего представления о соответствующем классе предметов. Тем самым исследователь приходит к выводу, что механизм образования «творительного сравнительного» последовательно синтаксичен, а значит перед нами сравнение, а не метафора [там же: 88]. Принимая факт возможной метафоричности существительного или глагола в составе конструкции с «творительным сравнительным» (М. И. Черемисина говорит, что метафоричность не является обязательным требованием таких конструкций [там же: 86]), полагаем, что можно выделить особый синкретичный тип приема – метафорическую метаморфозу как результат наложения метафоры на сравнение. Ср.: метаморфоза «чистая» (1) и метафорическая метаморфоза (2): 1) Одинокая Катя слонялась печальным клоуном по улицам…(А. Матвеева. Па-де-труа) – слонялась в знач. «бродила без дела»; У края скалистого берега Енисея, на отшибе таежного села Спасского, несокрушимой стеной стоит рубленный из лиственницы дом (Т. Булевич. Фрося-Ефросинья) – стоять в знач. «находиться неподвижно в вертикальном положении»; 2) Гадкими, злыми птицами летали над ней воспоминания… (А. Матвеева. Па-де-труа) – летали в переносном значении «постоянно приходили в голову» (ср. летать в перен. знач. «быстро проходить»: часы, минуты летят [Ожегов, Шведова 2003: 324] – языковая метафора). Неоправданным считаем рассмотрение в метафорической группе антитезы (см. [Зарецкая 1998: 396]).
313
Семантический перенос по связи и смежности Как правило, метонимией называют троп, основанный на переносе по смежности (близости понятий), в отличие от метафоры217. В специальной литературе можно встретить утверждение о нецелесообразности такого определения этого тропа, так как «не вполне понятен и объясним факт "смежности" предметов в номинации». Метонимию предлагается понимать как «перенос по связи: один предмет называется именем другого вследствие того, что эти предметы не похожи, но связаны друг с другом» [Пекарская 2003: 83]. Наконец, метонимию определяют как перенос на ассоциации связи или смежности, напр., в [Гвоздарев 2005: 29]. Таким образом, возникают разночтения в понимании основания метонимического переноса. «Когда мы говорим "связи", мы предполагаем зависимость и взаимодействие связанных элементов. Когда мы говорим "отношения", мы предполагаем прежде всего сходства и различия» [Березин, Головин 1979: 109]. В философии понятие связи используется как более широкое, чем понятие отношения. Выделяют внутреннюю связь сущностей: присущность А к В либо В к А (см. [Пивоваров 1998]), например, связь целого и части, причины и следствия – «силовой контакт А и В», т.е. прямое или опосредованное соединение, взаимное удержание вещей в пространстве и времени. Во втором случае связь временна, так как объединяемые А и В могут быть разъединены, могут существовать независимо друг от друга [там же]. Значит, во втором случае связь условна, поэтому когда говорят о метонимической связи, имеют в виду «реальную связь» [Томашевский 1983: 228]. Эта «реальная связь», в свою очередь, может быть различной: метонимической (отношения целого и части), отношения включенности или принадлежности и др., но не как логическое пересечение (свойственное метафоре). Поэтому если метонимию определять как связь, то необходимо уточнять, что это реальная связь взаимодействующих объектов. 217
Образно различие между метафорой и метонимией описано у Ю. Лотмана: «…Приклеенная деталь по отношению к расположенной рядом нарисованной будет выступать как метонимия, а по отношению к той потенциально нарисованной, которую она заменяет, – как метафора» [Лотман 1995: 97]. 314
В одних определениях метонимии акцентируется факт переноса значения (см., напр.: [Горшков 1996: 122; Матвеева 2003: 152; Розенталь 1998: 358; Голуб, Розенталь 1997: 214; КРР 1998: 272; Голуб 1999: 136]), в других – факт замены (субституции) одного наименования другим, находящимся с первым в ассоциативных отношениях по смежности (напр., в [Ахманова 2004: 234; Филиппов, Романова 2002: 98; Граудина, Кочеткова 2001: 662]), что связано с разными теориями тропа. Но, если говорить о метонимии, то можно согласиться с исследователями, которые пишут, что в отношение смежности вступают не значения слов, а реалии внеязыковой действительности, стоящие за словами [Илюхина 2007: 86], и что переносится знак (название), а значение преобразуется [Кустова 2004: 54]. «…Если в основу метафоры положено семическое пересечение двух классов, то метонимия действует в области непересекающихся классов [Дюбуа и др. 1986: 215]». Такое разграничение механизмов (парадигматического и синтаксического) тропеизации восходит к идее Р. Якобсона о взаимосвязи метафоры и метонимии с основными осями структуры языка – парадигматической и синтагматической. В основе переноса имени (названия) с одного объекта / класса объектов на другой объект / класс объектов, как считает Н. Д. Арутюнова, лежит механизм не семантических преобразований, как в метафоре, а синтагматических на базе словосочетания или предложения как результат эллиптического сокращения текста [БЭС 1998: 300]. Напр.: – Ура! – одновременно запрыгали паровозик и вагончик. И радостно закружили по кухне (М. Дружинина. Батарейки) – об игре Павлика и Кирюши в «паровозик», ср.: запрыгали Павлик в роли паровозика и Кирюша в роли вагончика; «Веселое горе – солдатская жизнь! – сказал за спиной у Анны сиплый голос (К. Паустовский. Северная повесть). Ср.: сказал человек с сиплым голосом; А в двери – бушлаты, шинели, тулупы…(В. Маяковский. Хорошо!). Ср.: А в двери – люди в бушлатах, шинелях, тулупах. Телевизионный экран пестрит погонами, лампасами, орденами (КР. 13.05.1999). Ср.: По телевизору показывают людей с погонами, лампасами, орденами; или однотипный пример: …В большой 315
кают-компании «Сибирякова» не протолкнуться. Мундиры, аксельбанты, свитеры, строгие черные костюмы (КП. 24.10.1998). Как объясняет Е. Курилович, метафора – смена семантически различных знаков в одинаковых синтаксических позициях, а метонимия – изменение самой синтаксической позиции (по [БЭС 1998: 521]). Эти тропы различаются и в функционально-синтаксическом плане: метафора выполняет преимущественно характеризующую функцию и поэтому, по наблюдениям Н. Д. Арутюновой, ориентирована на позицию предиката, а метонимия используется в идентифицирующей функции и стремится занять позиции референтных членов предложения (субъекта и других актантов) [Арутюнова 1998: 357]; метафора – «сдвиг в значении», метонимия – «сдвиг в референции» [там же: 370]. Полагаем, что метонимия – результат горизонтального синкретизма, в котором оператор усечения (эллиптического сокращения текста) – первичный, за ним следует оператор переноса. Есть мнение, что классифицировать связи между явлениями / понятиями в метонимии бесполезно (см. [КРР 2003: 327]). Очевидно, утверждая это, исследователи ориентируются на слова Квинтилиана о том, что существует «бесчисленное множество видов метонимии» [Античные теории… 1996: 236]. Тем не менее возможные типы связей по смежности Н. Д. Арутюновой сведены к одиннадцати типам: 1) вместилище, емкость → содержимое, объем содержимого; 2) материал → изделие из него; 3) место, населенный пункт → жители или связанное с местом событие; 4) действие → его результат, место или вовлеченный в действие предмет; 5) форма выражения содержания, его материальное воплощение → само содержание; 6) отрасль знания, науки → предмет науки или наоборот; 7) социальное событие, мероприятие → его участники; 8) социальная организация, учреждение → совокупность сотрудников и его помещение; 9) целое → часть и наоборот; 10) эмоциональное состояние → его причина; 11) автор → его произведение или созданный им стиль218 [БЭС 1996: 300]. 218
Тип метонимии «произведение / предмет → его автор / изобретатель» в античности называли гипаллагой: «Метонимия состоит в замене одного названия предмета другим. Сущность ее заключается в замене того, о чем говорится, причиной этого последнего. По словам же Цицерона, риторы называют этот троп гипаллагой. Она обозначает изобретенные предметы именем изобретателя и вещи, принадлежащие кому-либо, – именем их 316
Синéкдоха одними исследователями рассматривается как самостоятельный троп, другими – как разновидность метонимии, что связано с разным осмыслением этого приема. Можно говорить о существовании четырех точек зрения на понятие синекдохи (расположим их в зависимости от увеличения объема понятия): 1а) перенос с целого на часть или наоборот [Клюев 1999: 194; Хазагеров, Ширина 1999: 246; Стариченок 2002: 238; Стилистика... 2004: 419; Матвеева 2003: 300; Русова 2004: 216; Брандес 1983: 143]; 1б) только как отношение части к целому [Никитина, Васильева 1996: 125]; 2) (1) + абстрактное вместо конкретного или наоборот [Хазагеров, Лобанов 2004: 233]; 3) (1) + переносы количественные: единственное число вместо множественного или наоборот [КРР 1998: 273; Голуб 1999: 138] и определенное большое число вместо неопределенного множества: [Квятковский 1998: 310-311]; 4) (3) + переносы родовидовые (замена родового понятия на видовое и наоборот) [Волков 2001: 307; КРР 2003: 618; Дюбуа и др. 1986: 188]. Такое разночтение объясняется тем, что еще в античности синекдоха трактовалась по-разному – как: (1а) в «Риторике к Гереннию»; (3) – Цицерон [Античные теории… 1996: 234]; (1) + «по виду – род, из предыдущего – последующее» (Квинтилиан) [там же: 235]. Разное понимание этого приема видим и в старинных русских риториках, например, (1а) – «Компендиум по риторике» Слуцкого [Вомперский 1988: 23]; (1) + (4) – М. В. Ломоносов «Краткое руководство к красноречию» [Ломоносов 1952: 246-247]. Заметна тенденция: термин «синекдоха» современными исследователями используется все чаще в узком (1) значении и как разновидность метонимии. Отмечается, что граница между синекдохой и другими типами метонимии «очень условная» и что «в чистом виде синекдоха встречается только тогда, когда сопоставляемое и сопоставляющее настолько однородны в качественном отношении, что различия между ними воспринимаются в основном как количественные (больше – собственника» (Квинтилиан) [Античные теории… 1996: 235]. В риторике описаны и такие связи, как предыдущее вместо последующего, знак вместо значимого, и наоборот [Теория красноречия… 1830: 41]. 317
меньше). Практически это возможно в двух случаях: когда и сопоставляемое, и сопоставляющее – неодушевленные предметы или когда олицетворение сопоставляющего подкрепляется достаточно широким контекстом» [Хазагеров, Ширина 1999: 267-268]. Посмотрим, во всех ли названных выше типах синекдохи, выделяемых исследователями, возможно преобразование этого приема в словосочетание или предложение (что характеризует метонимию). 1) …Кто-то движимый зовом сердца просто решил вернуться на российские просторы, откуда дедов и бабок выкинула недрогнувшая рука красного комиссара, раскулачившего и уничтожившего русское крестьянство… (Изв. 10 окт. 1998 г.) – одновременно часть вместо целого и единственное вместо множественного; ср.: …выкинули красные комиссары; 2) После ухода бессмысленной медицины [врача. – Г. К.] Нина вдруг страшно засуетилась (Л. Улицкая. Веселые похороны) – ср.: После ухода представителя медицины…; 3) В общем, ничего из себя не представляющая личность, из таких, какие в каждом трамвае по десять штук едут (М. Зощенко. Голубая книга) – определенное число вместо неопределенного, ср. с каких в каждом трамвае ездит множество; эллипсиса нет, поэтому осуществлять преобразование в словосочетание / предложение нет смысла; Когда же Малышев реализовал численное преимущество, задранный нос новосибирцев поморщился… (СГ. 01.12.2003) – ср. новосибирцы поморщились; – Жаль, немец не знает, сколько мы ему тут всего нарыли, а то бы узнал – враз отступил… (К. Симонов. Живые и мертвые) – единственное число существительного вместо множественного, что можно рассматривать как перенос одной грамматической формы в сферу значений другой формы, то есть как грамматический троп; 4) …Московские венерологи быстро уничтожили фауну на его теле (АиФ. 2002. № 38) – родовое (выполняющее роль эвфемизма) наименование вместо видового; ср.: уничтожили вшей. Как видим, синекдоха (в широком смысле) – не всегда есть результат эллиптирования словосочетания или предложения. В этом смысле рассмотрение ее в качестве самостоятельного приема, а не типа метонимии оправдано. А. А. Потебня, а вслед за ним другие исследователи видят в синекдохе отдельный троп, основанный на «совключении», чего, как утверждает Л. В. Чернец, не требует принцип смежности [Чернец 2001: 8]. Наблюдается неоправданное рас318
ширение значения термина «синекдоха» (его использование для наименования приема «говорящие имена» и типа грамматического тропа, основанного на переносе формы в рамках оппозиции ед.ч. – мн.ч.). При другом подходе отличие метонимии от синекдохи, вслед за Дюмарсэ, видят в том, что при метонимическом наименовании «имеется в виду такая связь между предметами, при которой предполагается, что предмет, имя которого используется, существует независимо от предмета, на который это имя указывает, и оба они не составляют единого целого» (Цит. по [Кручинкина 2007: 58]). В синекдохе же действует механизм включения: оба предмета составляют некоторое единство и соотносятся как часть с целым [там же] (см. выше пример 1). Таким образом, при разграничении метонимии и синекдохи исследователи оперируют различными критериями, поэтому и квалификация однотипных фактов у них оказывается также различной. «Развернутой метонимией» Б. Т. Ганеев называет перифразу219 – замену слова (словосочетания) описательным словосочетанием, в котором указаны признаки не названного прямо объекта. В качестве примера приводит сочетание царь зверей вм. лев [Ганеев 2004: 228], в котором нам видится метафора в составе перифразы: царь в знач. «самый сильный (из зверей)». Более того, перифраза не обязательно является отклонением от собственно языковой нормы, напр.: Люди, изо дня в день потчующие вас «блюдами», которые согласится есть не каждое уважающее себя домашнее животное (даже хрюкающее!), для меня не профессионалы (Н. Замяткин. Вас невозможно научить иностранному языку). Текстовыми перифразами называют сочетания типа герой нашего рассказа; те, о ком шла речь [Шмелева 2006: 7], но они вполне нормативны, т.е. термин «перифраза» используется также для наименования особого средства связи. В. П. Москвин выделяет логическую перифразу, которая может использоваться в логических дефинициях (напр.: глаз – орган зрения) [Москвин 2006а: 147]. Однако в таких случаях не может быть речи об отклонениях от нормы, так как перед нами логическая дефиниция и представлены оба компонента. 219
Синонимы: циркумиция, циркумлокация [Хазагеров, Ширина 1999: 279], циркумлокуция, метафразис (метафрасис) [Москвин 2006а: 234]. 319
Очевидно, перифраза – общее наименование описательных оборотов, которые могут быть выражены разными приемами, напр.: Нет времени более поэтичного, чем время «пышного природы увяданья» (КП. 03.10.2003) – описательное обозначение осени в форме цитации; По реке плывут дрова… красные (О. Дзюба. Былинки с обочины столетий) – в этом предложении, представляющем собой трансформацию прецедентного текста, под красными дровами подразумевается лосось, идущий на нерест (метафорическая перифраза). Вполне объяснимо, почему одни исследователи определяют перифразу как тип метонимии, другие – как разновидность метафоры, третьи – как самостоятельный прием, выделяемый на основе связи тождества. Тропеическую перифразу называют кéннингом (троп, состоящий в замене собственного или обычного нарицательного имени описательным оборотом, как правило, поэтическим [Ахманова 2004: 195; Хазагеров, Ширина 1999: 236]220 (при таком понимании кеннинга антономазия может рассматриваться как его разновидность). Перифрастические сочетания типа дорожный товарищ вместо попутчик, чуждый человек вместо незнакомец И. М. Кобозева, Н. И. Лауфер называют «неидиоматической лексикализацией» и пишут: «В норме если в языке существует лексема, служащая для выражения некоторой семантической конфигурации, то она и выбирается при вербализации. Так, смысл ‘грохот, сопровождающий молнию во время грозы’ передается словом гром, а не словосочетанием, передающим тот же смысл» [Кобозева, Лауфер 1991: 132]. Вместе с тем не оговаривается, к какому типу норм относятся нормы вербализации мысли, которые, очевидно, нарушены в высказывании Но самый опасный и алчный – двуногий любитель рыбы (КП. 10.11.2003) – ср. самый опасный и алчный – человек: в отличие от сочетания дорожный товарищ вм. попутчик, вошедшего в узус, сочетание двуногий любитель рыбы можно отнести к «неидиоматической лексикализации» и даже перифразе, но никакого переноса значения мы здесь не видим (действует оператор замены, а не переноса). 220
При более широком понимании кеннинг – перифрастическое выражение в поэзии, которым заменяется какое-либо существительное [Ганеев 2004: 233]. Термин «кеннинг» используется и в качестве наименования одного из жанров в германо-скандинавской поэзии – загадки, основанной на перифразе [Москвин 2006а: 131]. 320
В метонимическую группу (на материале немецкого языка) М. Т. Брандес включает эвфемúзм (перифраз с целью «смягчить воздействие при назывании какого-либо неприятного качества» [Брандес 1983: 143]), однако эвфемизм может быть и неметонимическим, более того, вообще нетропеическим обозначением предмета в широком смысле. В. П. Москвиным в книге «Эвфемизмы в лексической системе современного русского языка» описано 14 способов эвфемистической зашифровки: метонимическая номинация, метафорическая номинация, прономинализация (замена местоимением), замена близкозвучным словом, аббревиация, использование книжных слов и выражений, иноязычных слов, перифразирование, антономазия, синекдоха, мейозис, эллипсис [Москвин 1999: 30]. Л. Н. Вавилова пишет о том, что подход к эвфемии как явлению лексического уровня не отвечает в полной мере сущности этого явления, поскольку эвфемистические высказывания могут быть самого разного лексического наполнения и синтаксического оформления [Вавилова 2004: 24]. Сам факт различного оформления эвфемистических замен свидетельствует, с нашей точки зрения, о том, что эвфемизм как прием выделяется не на структурном, а на функциональном основании221. Именно поэтому «эвфемизм как способ непрямого, перифрастического и при этом смягчающего обозначения предмета, свойства или действия соотносителен с другими речевыми приемами…» [Крысин 2000: 388]. Неоднозначна трактовка и такого приема, как антономасúя [Квятковский 1998: 50] (антономáзия [Ахманова 2004: 50], антономаза [Никитина, Васильева 1996: 52], онтономасия [Азнаурова 1977: 98]), или пермутацио [Вомперский 1970: 23]: этот прием чаще всего рассматривают как разновидность метонимии или метафоры [Брандес 1983: 142], реже – синекдохи [Опыт риторики… 1809: 44;
221
Цели, преследуемые говорящим при употреблении эвфемизмов: 1) дать оценку предмета речи (он не может быть назван прямо по тем или иным причинам – грубое, неприличное и т.д.), обозначив его завуалированно, чтобы не вызывать у собеседника коммуникативного дискомфорта; 2) «замаскировать» истинное положение дел (т.н. камуфлирующие эвфемизмы); 3) сообщить информацию адресату таким образом, чтобы это было понятно только ему [Крысин 2000: 391-398]. 321
Зеленецкий 1849: 39; Общая реторика 1844: 89]222 или перифразы [Хазагеров, Ширина 1999: 258], по-разному определяя его суть. Антономазия, по мнению исследователей, состоит: 1а) в употреблении собственного имени, ставшего нарицательным (напр., Отелло вместо ревнивец) [Квятковский 1998: 50; Ахманова 2004: 50]; или 1б) в употреблении собственного имени в значении нарицательного [Ломоносов 1952: 248; Голуб 1999: 137; Филиппов, Романова 2002: 99; Клюев 1999: 194; Полторацкий 1975: 27]: Брутальный Онегин, изнемогший под тяжестью влюбленного взора, назначил своей поклоннице свидание… (Л. Улицкая. Сонечка); 2) в замене имени собственного или обычного существительного описательным выражением (покоритель Сибири вместо Ермак; наш Демосфен вместо Жириновский223) [Хазагеров, Лобанов 2004: 238-240] и «в описательном обозначении лица. русск. победитель при Аустерлице, побежденный при Ватерлоо вм. Наполеон» [Ахманова 2004: 50]; 3) (1а) + в замене имени известного лица названием предмета, к нему относящегося (создатель Ватикана вместо Микеланджело у А. С. Пушкина) [Квятковский 1998: 50]; в замене известного лица выражением, в котором содержится указание на его главную роль, функцию, предмет, имеющий к нему отношение, и т.п. (галилеянин вм. Иисус, Орлеанская дева вм. Жанна Д’Арк) [Никитина, Васильева 1996: 52]; 4) (1б) + в употреблении нарицательного имени в значении собственного [КРР 1998: 273; Азнаурова 1977: 99] или сочетаний нарицательных имен в значении собственного – т.н. говорящие имена [Брандес 1983: 142]224; 222
В риторике использовался синонимический антономазии термин «проименование» (собственное имя вместо нарицательного и наоборот) [Общая реторика 1844: 89]. У А. Галича термин «проименование» употребляется в более узком значении (собственное вместо нарицательного) [Теория красноречия… 1830: 42]. 223 Эти два примера не однотипны, так как в первом сочетании собственное имя употребляется в прямом значении, а во втором – в переносном. 224 Прием «говорящие имена», или «имятворчества» как образование «"мотивированных" квази-имен», по А. И. Полторацкому [Полторацкий 1975: 32], имеет другой механизм образования, нежели метонимия, хотя бы уже потому, что не является результатом синтагматического преобразования. 322
5) в обозначении лица словом, имеющим отвлеченное значение свойственного или приписываемого данному лицу качеств: нечистый вм. черт, дьявол, домовой [Ахманова 2004: 50]; 6) (1б) + (2) + в замене имени собственного описательным оборотом (Страна восходящего солнца вм. Япония) [Хазагеров 2002: 129] + в использовании географического названия, места, связанного с какими-либо событиями, для обозначения сходных, типичных событий: Или Чернобылям не будет конца… [Хазагеров, Ширина 1999: 208]; 7) (1а) + в «превращении слова, раскрывающего суть характера в собственное имя персонажа», т.е. переходе нарицательного имени в собственное» [Арнольд 2002: 128]; 8) в субстантивации эпитета как вида антимерии: серый (о волке), косой (о зайце) – одно из значений [Москвин 2006а: 61]. Такое разночтение в понимании антономазии объясняется тем, что этот прием, как и многие другие, может накладываться на различные РП. Поэтому, например, использование собственного имени вместо нарицательного Т. Г. Хазагеров и Л. С. Ширина рассматривают как гибрид перифразы и метафоры; сочетание типа Или Чернобылям не будет конца… они трактуют как гибрид перифразы, метафоры и метонимии, а О. Н. Емельянова пишет, что перед нами синекдоха [КРР 2003: 71]. Как тип синекдохи рассматривается антономазия в значении (1б) в [Никитина, Васильева 1996: 53; Клюев 1999: 194; Дюбуа и др. 1986: 188], как тип перифразы – антономазия в значении (2). Возникает вопрос, нужно ли учитывать все случаи наложения, сцепления приемов при построении общей классификации приемов или достаточно выделить ядерные приемы, образующие те или иные группы, основанные на общем принципе продуцирования, а далее говорить уже о разных вариантах взаимодействия приемов? Думаем, что на первом этапе системного описания РП второй путь более продуктивен потому, что взаимодействие элементов системы – это одно из ее свойств, которое может быть описано непротиворечиво только после того, как будет охарактеризована вся система в целом. В перечне значений термина «антономазия» нельзя не обратить внимание и на тот факт, что в основе антономазии (1а) и (1) лежит оператор переноса (транспозиции) имен из одного лексикограмматического класса в другой, в основе же антономазии (2) и (5) – замена наименования осуществляется на основе иных соотно323
шений слов. Очевидно, поэтому антономазия в одном значении (1) рассматривается О. С. Ахмановой как троп, а в другом (5) – как фигура речи. Для обозначения приема, состоящего в описательном наименовании лица или предмета посредством словосочетания или предложения, существует специальный термин, который мы уже упоминали выше, – перифраза (покоритель Сибири вм. Ермак; Орлеанская дева вм. Жанна Д’Арк; Страна восходящего солнца вм. Япония). Причем перифраза вовсе не обязательно предполагает использование слов в переносном значении. Однако она в своем составе может иметь антономазию. Ср.: 1) Казанова в юбке так и металась по свету, пока в ее дверь не постучалась настоящая любовь (Телевизор. 2006. № 4) – сочетание Казанова в юбке заменяет имя Джулия Робертс, при этом собственное имя употреблено в значении нарицательного «геройлюбовник», т.е. антономазия используется в составе перифразы; 2) Петербург – Мекка для современного российского, более-менее причастного к культуре человека» (ЛГ. 2005. № 5) – собственное имя Мекка используется в значении «место паломничества», т.е. здесь нет перифразы в обозначенном выше понимании. В тропах «перенос наименования осуществляется на основе общих признаков денотата и референта, соотносящихся с разными классами внеязыковых объектов», а «актуализируемая единица характеризуется одновременной соотнесенностью с предметом первичного и вторичного означивания» [Азнаурова 1977: 102]. Это свойство тропа, безусловно, характерно для использования собственного имени в значении нарицательного, т. е. для прономинации (в таком значении используется этот термин в [Москвин 2006а: 248]225). Поговаривают, что руководство канала ТНТ решило продлить проект «Дом-2» аж до августа. Непонятно только, кому нужно очередное продолжение этой «Санта-Барбары»? (Комок. 2005. № 17) – прономинация, так как имя собственное «Санта-Барбара» используется в значении «длительный проект». Такого рода антономазия (в ее широком осмыслении) рассматривается как тип синекдохи С.-Ш. Дюмарсэ, П. Фонтанье (по [Безменова 1991: 172, 190]), ав225
Термином «прономинáция» обозначают антономазию то в значении (1), то в значении (2), то в значении (5). 324
торами «Общей риторики» [Дюбуа и др. 1996: 188], в [Елисеев, Полякова 2002: 182] и других источниках. Можно согласиться с тем, что общее родовое понятие в данном случае заменяется частным (но здесь нет отношения «часть и целое», характерного для синекдохи в ее узком понимании), однако эта замена осуществляется на основе сходства двух объектов внеязыковой действительности и сема «длительность» присутствует в коннотациях обоих собственных имен. Поэтому мы согласны с И. В. Пекарской, по мнению которой антономасия как употребление собственного имени в значении нарицательного находится «в зоне пересечения метафоры и метонимии, на дальней периферии одного и другого базисных тропов», так как он строится одновременно на принципе сходства и принципе смежности [Пекарская, Амзаракова 2003: 84]. Э. С. Азнаурова пишет о том, что «в основе вторичной окказиональной номинации в составе стилистического приема метонимии лежат постоянные ассоциации, возникшие в связи с экстралингвистическими характеристиками объектов внеязыковой действительности и отражающие определенные типы отношений между ними. Например, отношения между частью и целым – синекдоха ("крыша" и "дом"), содержимым и содержащим ("зал" и "люди" в зале), конкретным выражением абстрактного понятия и самим абстрактным понятием ("колыбель" и "рождение") и т.п.» [Азнаурова 1977: 100]. В основе же антономасии (у нее – онтономасии) – ассоциации случайные, то есть такие, которые «порождаются конкретным контекстом и вместе с ним исчезают» [там же: 99]. Это суждение справедливо по отношению к «живой» антономазии, которая не закреплена в толковых словарях русского языка, то есть не стала нормой. Сравните: эхо (первоначально имя нимфы, которую богиня Гера наказала за беспрестанную болтовню таким образом, что та могла произносить только концы слов; безответно влюбленная в Нарцисса, Эхо исчезла, от нее остался только голос), флора (первоначально имя богини цветов, садов и юности) [Лосева и др. 1997: 553-554. Мифологич. словарь]. Впрочем, А. И. Полторацкий указывает на то, что число имен, которые можно было бы употребить как «материал» для образования антономазии, оказывается ограниченным, и поэтому «живые» (нестандартные) антономазии встречаются относительно редко [Полторацкий 1975: 27-28]. Особо следует сказать об употреблении собственных имен во мн. ч. в значении нарицательных, напр.: 325
а) В кино бы снялся, да видно, Тодоровские утренние эфиры не смотрят (Телевизор. 2005. № 12) – антономазия; б) Одесса, город, в котором я никогда не был, но заочно ненавижу, – столица русской пошлости, гниющая местечковая рана, из которой расползаются во все стороны по России Петросяны, Дубовицкие, Либенбаумы» (Комок. 2005. № 17); Бесконечные петросяны, винокуры, наташи королевы, жванецкие, вайкуле, галкины – несть числа – смотрелись донельзя надоевшими, вызвали разочарование и раздражение такое, что хотелось им крикнуть пастернаковское «быть знаменитыми некрасиво» (ЛГ. 2005. № 3); Я никогда не был ловеласом, но и у меня выпадали дни, когда все Джульетты, Беатриче и Лауры, вместе взятые, становились ничто по сравнению с какой-нибудь рыжеволосой примадонной Второго Каленого переулка (Р. Киреев. Подготовительная тетрадь); Товарищи ученые, Энштейны драгоценные, Ньютоны ненаглядные, любимые до слез!» (В. Высоцкий) – перифрастическая антономазия, так как собственные имена употребляются вместо нарицательного имени. «Превращение» собственных имен в нарицательные в форме множественного числа, по словам О. П. Ермаковой, заметно активизировалось в конце ХХ века для выражения оценки (как правило, отрицательной) личности и группы лиц как общественного явления [Ермакова 2000: 43]. В. З. Санников считает, что смысл такого употребления собственных имен – снижение: «Употребляя во множ. числе имя единичного общественного предмета или лица, мы л и ш ае м е г о у н и к а л ь н о с т и и тем самым снижаем – независимо от оценки этого предмета или лица. Фразу Франция еще родит Наполеонов может сказать и противник Наполеона, и его горячий поклонник, однако в обоих случаях Наполеону отказано в уникальности» [Санников 1999: 87]. С «отказом в уникальности», пожалуй, можно не согласиться: коннотация тщеславия, величия сохраняется, в противном случае это собственное имя не могло бы использоваться в качестве нарицательного. Использование собственного имени во мн. числе в значении нарицательного – прием синкретичного типа, так как он строится, с одной стороны, на отклонении от лексической нормы (на основе оператора семантической транспозиции по сходству), с другой – на отклонении от грамматической нормы (на основе оператора транспозиции формы). Таким образом, в примерах (а) и (б) – лексикограмматический троп. 326
В качестве самостоятельной разновидности метонимии рассматривают метáлепсис226 – прием, который состоит в замене логически предшествующего понятия логически последующим или наоборот: гроб в смысле смерть («гроб» – логическое следствие смерти) [Ахманова 2004: 230]; «…в сопоставлении логически и во времени предшествующего предмета, явления, события с последующим» [Хазагеров, Ширина 1999: 242]. При более широком понимании металепсис (металепса) состоит «…в обозначении одной ситуации или явления через другие, так или иначе с ним связанные». Ситуация представляется 1) по предшествующему действию: взяться за оружие – ‘начать войну ;ۥ2) по сопутствующему действию: махать косой – ‘косить ;ۥ3) по результату: преломить копья с кем-л. [Москвин 2006а: 161]. Совершенно иное понимание металепсиса было в старинных русских риториках. Так, уже И. Рижский видел суть металепсиса в том, что «…в одномъ словѣ заключается нѣсколько различныхъ троповъ; на прим. обнаженнаго меча не видали въ городѣ. Здѣсь мечъ употребленъ вмѣсто оружiя, оружiе вмѣсто пролитiя крови, пролитiе крови вмѣсто войны» [Опыт риторики… 1809: 46]. Н. Кошанский трактовал этот прием как соединяющий «два и три Тропа вмѣсте»: Как десять жатв прошло, взята пространна Троя жатва вместо лето, лето – вместо круглый год (итого: часть вместо целого – синекдоха) [Общая реторика 1844: 91]. Со временем критерий совмещения нескольких переносов в одном слове был утрачен. Ср. современное определение металепсиса, данное А. А. Волковым: «…сложный троп, который образован от другого тропа, то есть состоит в двойном переносе значения»: Небывалая осень построила купол высокий, / Был приказ облакам этот купол собой не темнить (А. А. Ахматова) – «олицетворение осени позволяет построить новый метафорический образ: осень строит высокий купол, то есть высокое небо» [Волков 2001: 309]. В таком значении металепсис вы226
При ином осмыслении металепсиса как переноса по сходству и разновидности полисемии его относят к метафорической группе [Прокопчук 2007: 119]. 327
ступает как синоним гипертропа (термин И. В. Пекарской [Пекарская 2000а: 206]).
Семантический перенос по контрасту Тропом контраста, или противоположности, считают антифрáзис (иначе: антифраза, антифраз, антифрасис; вспятословие, пермутация [Москвин 2006а: 66]) – употребление слова (а также словосочетания или предложения) в значении, противоположном буквальному227. Такое определение дополняют формулировками типа «или отрицающем, ставящем под сомнение обычное» [Пужилова 2006: 216]. Однако, если быть точным, здесь нужно говорить не о значении, а о функции этого приема: не новое значение «ставит под сомнение» обычное, прямое, а антифразис может использоваться в функции отрицания или выражения сомнения действительного существования явления / факта, отображенного в семантике слова при его буквальном использовании. Ср.: (1) От судьбы получаю впридачу Психбольницу – К моей Колыме. Отчужденные, странные лица. Настроение – хоть удушись. Что поделать – такая больница И такая «веселая» жизнь. (А. Жигулин. Из больничной тетради); А моему ученику вместо «Иванов» написали «Иванова»: опять-таки работников паспортного стола можно понять – такая сложная фамилия, поди разбери! (ЛГ. 2007. № 3); (2) А в Москве осуществлялись «великие реформы». Рухнули «вклады» в Сбербанке, превратив народ в голытьбу (Завтра. 2006. № 12); После такого «ремонта» воды в домах, понятное дело, не было (Комок. 26.10.2004).
227
В иной трактовке антифразис – не троп, а стилистическая фигура [Граудина, Кочеткова 2001: 657; Елисеев, Полякова 2002: 71; Волков 2001: 319; Ганеев 2004: 224 и др.]. 328
Употребления антифразиса типа (1) предлагают называть «собственно антифразисом», антифразиса типа (2) – «афразисом» [Пужилова 2006: 217]. Рассмотрим еще такой пример: (3) – Мой сын сейчас в школе. – Конечно! (Лучше посмотрите, кто там во дворе хулиганит) (пример из [Разлогова 2005: 78]) – употребление слова конечно в функции «мнимого согласия» ставит под сомнение факт, о котором заявляет собеседник. Если антифразис выражен целым предложением, происходит «сдвиг» в субъективно-оценочной модальности: отрицание выражается в форме утверждения. В таком случае перед нами троп не только лексический, но и грамматический (лексикограмматический). Особый интерес представляют конструкции, близкие к антифразису: слова используются в прямом значении, но смысл у всей конструкции прямо противоположный тому, что утверждается. Напр.: (4) Вася Шаманов поинтересовался моими планами на вечер. – Планов громадье, – честно сказал я. – Буду латать одежку пацанам, готовить корм, и все такое. Вася объяснил, что в переводе на общечеловеческий язык моя реплика прозвучала бы примерно так: «Милый друг, Вася, мне совершенно нечего делать сегодняшним вечером, и я могу помочь в твоем совершенно неотложном деле» (А. Матвеева. Па-де-труа); (5) – Ладно, собирайся, поехали. Нас ждут. – Чего, прям вот так сейчас? – Нет! Подождем с годик-другой, пока у тебя последние зубы выпадут. Вставай! (А. Кучаев. Женитьба // ЛГ. 23-29.04.2008). Использование слов в противоположном значении именуют также иронией [Матвеева 2003: 96; Горшков 1996: 123; Русова 2004: 97; Голуб, Розенталь 1997: 224; Розенталь, Теленкова 2001: 155; Кузнец, Скребнев 1960: 35]228, что нецелесообразно229, поскольку средством выражения иронии как вида комического может служить не только антифразис, но и другие приемы. Показательны в этом отно228
Очевидно, это объясняется тем, что употребление слова в противоположном значении рассматривалось как ирония в старинных риториках, напр. в «Компендиуме по риторике» Слуцкого (см. [Вомперский 1988: 23]). 229 На это обращается внимание в [Пекарская 2000б: 161; ЭСС 2005: 50]. 329
шении положения русских риторик, в которых антифразис трактовался иначе и рассматривался как понятие более узкое, по сравнению с иронией. В частности, И. Рижский антифразис (противоименование) – «когда собственое имя будетъ употреблено къ названiю такого лица, которое совсѣм противныхъ качествъ» – называет разновидностью иронии [Опыт риторики… 1809: 48]. По мнению же Н. Кошанского, антифразис «противоположенъ Антономазiи», «когда даютъ собственное имя въ противномъ значенiи». Астеизм (у него «колкая насмѣшка»230), как и антифразис, рассматривает в качестве вида иронии, хотя в определении этих понятий видовых отношений не усматривается [Общая реторика 1844: 90]. Средства и приемы иронии, не имеющие отношения к антифразису, описаны в одной из публикаций О. А. Лаптевой. Это использование цитат с целью намека на нечто известное читателю, жаргонных и разговорных слов в неподобающем текстовом окружении, эпитеты, окказионализмы, глагольные приставки и др. [Лаптева 1996]. Приведем пример иронии без использования антифразиса: Николай Басков прилетел в Приморье на одном борту со спикером Госдумы Геннадием Селезневым. Звезда отечественной сцены скромно сбежал с трапа самолета Як-40 вместе с теледивой Оксаной Пушкиной (КП. 26.09.2003). В стилистике и риторике используют термин астеúзм, который (при его узкой трактовке231) одни исследователи считают синонимом антифразиса [Квятковский 1998: 47; Граудина, Кочеткова 2001: 657], другие – используют для обозначения антифразиса в позитивнооценочной функции, то есть как прием выражения похвалы, комплимента в форме мнимого порицания или грубовато-шутливого упрека [ЭСС 2005: 74; Хазагеров, Лобанов 2004: 236; Клюев 1999: 212; Хазагеров, Ширина 1999: 213; Москвин 2006а: 69; Чмыхова, Баскакова 1992: 131]. Тем самым астеизм выделяется в рамках антифразиса на функциональной основе, его маркером могут быть в письменной речи кавычки, в устной – интонация. В качестве синонима астеизма
230
Ср.: «Астеизмъ, невзначай сказанная острая шутка» [Теория красноречия… 1830: 47]. Астеизм можно понимать не как прием, а как комический речевой жанр (тем более что шутку считают речевым жанром). 231 В широком смысле термин «астеизм» обозначает всякую изящную шутку. 330
используют термин персифляция [Филиппов, Романова 2002: 105; Москвин 2006а: 70]. И. В. Пекарская антифразис (скрытое значение имеет отрицательный характер) и астеизм (скрытое значение имеет положительный характер)232 не считает тропами, так как, по ее мнению, они строятся не на переносе значения, а на семантической контаминации, поскольку их сущность «два в одном», «одно вместо другого» [Пекарская 2000а: 165]. Однако если так рассуждать, то и метафора, и вообще любое употребление языковой единицы не в своем значении – это тоже «два в одном». Между тем этого нельзя сказать по отношению к примеру 4. Отклонения с оператором переноса коннотации Существует схожее с тропами явление, которое описано Э. С. Азнауровой. Она его называет «окказиональной номинацией с эмоционально-оценочной прагматической направленностью». Этот тип знаковой репрезентации наблюдается, как пишет автор, в случаях «стилистической актуализации нейтральной лексической единицы» [Азнаурова 1977: 105]. Для именных лексем названный тип окказиональной номинации характеризуется тем, что у денотата появляется окказиональная референтная соотнесенность с квалификативными сферами познавательной деятельности человека на основе «приписывания» этому денотату признака квалификативного характера, который стимулирует формирование эмоционально-оценочных смыслов. Другими словами, этот прием, как и тропы, являющиеся окказиональными переименованиями, построен на транспозиции слов. Однако, по мнению исследователя, отличие этих явлений состоит в том, что «в случае окказионального переименования имеет место перенос признака, общего для узуального денотата и окказионального референта. В случае же данного типа номинации происходит индуцирование, введение, "приписывание" нового признака, который отличается прежде всего тем, что не имеет никаких общих семантических характеристик с "бросающимся в глаза" признаком, по которому произошло первичное означивание» (матадор – про232
В качестве родового для антифразиса и астеизма исследователь использует сочетание «семантический конденсатор» [Пекарская 2000б: 164]. 331
фессия и матадор – бранное ругательство) [там же: 114-115]. Напр.: …Займитесь каким-либо более мирным и более приятным для себя трудом, как-то: разведением кроликов на мясо, бегом трусцой, игрой частушек на завалинке, изучением трудов классиков марксизмаленинизма, вышиванием крестиком по ноликам или какой-нибудь другой камасутрой (Н. Замяткин. Вас невозможно научить иностранному языку). Объяснение таких переносов зависит от понимания лексического значения: если коннотацию выводить за рамки лексического значения, то перед нами явление, смежное с метафорой; если же в значение слова включать и всевозможные коннотации, то такой перенос может быть рассмотрен как метафорический, поскольку в основе метафоризации может лежать не только конкретный признак, но и «некое общее или сходное впечатление, производимое сопоставляемыми предметами» [Скляревская 1993: 46]233. В качестве иллюстрации приведем также текст из фильма одного французского режиссера, взятый нами из книги М. Ягелло «Алиса в стране языка», где он приводится в качестве аргумента разнообразия бранных выражений: Изабель встречает Мари внизу лестницы. – Ну и шевелюра же ты! – говорит она ей. – а ты – рука. – сама ты рука, лопатка! – лопатка? Ну уж это слишком, грудь ты этакая! – язык, зуб, лобок! – глаз! – ресница! подмышка! почка! – горло!.. ухо! – это я ухо? да ты на себя посмотри, ноздря! – да ты, ты – десна престарелая! – палец! – член! [Ягелло 2003: 140].
233
Семантический посредник между прямым и метафорическим значениями, который может представлять множество сем (обычно нерасчлененное, диффузное), Г. Н. Скляревская называет «символом метафоры». В исходном номинативном значении этот компонент (сема или множество сем) относится к сфере коннотации, а в метафорическом значении входит в денотативное содержание в качестве ядерных сем [Скляревская 1993: 46]. 332
Характеризующее значение слов здесь практически полностью вытесняет их номинативную функцию, что характерно для языковых метафор типа тумба, бревно, колода и т.п., употребляющихся применительно к человеку и воспринимающихся как его дискредитация. В результате происходит «десемантизация» метафоры (см. об этом [Скляревская 1993: 19, 108]). Кстати, используемые в диалоге бранные слова, как бы это парадоксально ни звучало, с одной стороны, можно считать эвфемизмами по отношению к тем, которые используют иные люди в ситуациях подобного некооперативного взаимодействия, с другой – дискредитирующими собеседника. Отклонения с оператором перестановки Оператор перестановки продуктивен в области отклонений от фразеологической нормы. Перестановка компонентов фразеологизма может быть проиллюстрирована таким примером: Если хочешь, чтобы другой все-таки попал в яму – вырой их две (ТД. 08-14.04.2002) – ср.: рыть яму кому-л. Отклонения с оператором замещения В качестве отклонения от фразеологической нормы может квалифицироваться замена компонента такого устойчивого сочетания, которое характеризуется незаменяемостью компонентов, то есть не допускает их вариантности [Молотков 1966: 100], напр.: 1) – Камчатский большевик Ларин прошел обычным для ниспровергателей прошлого скорбным путем из грязи к власти, от власти в лагерь, а потом вместе с другими уцелевшими попал на «заслуженный отдых» от пережитого (О. Дзюба. Первые джинсы России) – ср.: из грязи в князи; 2) Не пренебрегайте советами старого и опытного воина, любезный моему сердцу и пока еще необстрелянный собеседник (Н. Замяткин. Вас невозможно научить иностранному языку) – ср.: стреляный воробей; 3) Пахнет серой и еще чем-то до слюноотделения знакомым… (М. Валеев. Юморески) – ср.: до боли знакомым; 4) Не верь глазам… чужим (Заголовок. Вечерний Красноярск. 20.03.1998) – ср.: не верь глазам своим (замена на антоним); 5) Мухи 333
творчества (название рубрики // ЛГ. 2005. № 34-35) – ср.: муки творчества (замена на парономаз). Отклонения с оператором расчленения При трансформации фразеологизмов оператор расчленения («цитирования по частям») используется реже по сравнению с другими операторами: Замкнулся я, сижу. Вдруг чую: кто-то скребется. Оказывается – кошки. Когтят душу – только клочья летят. С чего бы? (М. Валеев. Юморески). Отклонения с несколькими операторами Отклонение от фразеологической нормы с несколькими операторами можно проиллюстрировать следующими отрывками: Вадик медленно побрел к себе. На душе у него скребли кошки. Точнее, это были не кошки, а только один котенок, Кузька. Но скреб этот Кузька на душе у Владика изо всех сил, как дюжина здоровых котов… (М. Дружинина. Дело чести) – изменение (замена) грамматической формы слов, входящих в состав фразеологизма, замена нарицательного имени на собственное, вставка компонентов этот и изо всех сил. Особый прием – расчленение фразеологизма на компоненты с их последующим переосмыслением, напр., просторечного фразеологизма правду-матку говорить (резать) [ФС 2004б: 102]: И когда Валерий Александрович сталкивался с таким охотником или охотницей за дипломом, то уж он не упускал возможности блеснуть своей образованностью, следуя современной присказке: резал правдуматку, да так, что правда умирала, а матка оставалась (В. Монахов. Лжизнь).
334
2.3. Риторические отклонения от словообразовательной нормы Среди паралингвальных РП достаточно хорошо изученным является прием окказионального словотворчества. Образуемое окказиональное слово (как и оборот) имеет такие названия, как гапакс эйремéнон и гапакс легóменон [Ахманова 2004: 95]. Существует широкое и узкое понимание окказионализмов. В соответствии с широким пониманием окказиональными называют слова, которые не входят в словарный состав языка, т. е. не зарегистрированы в словаре (не кодифицированы), но функционально целесообразны в том или ином контексте. Такая трактовка предполагает признание структурной неоднородности типов окказиональных слов. А. Г. Лыков пишет: «…Понятие "неправильность (ненормативность) слова" не есть "величина" постоянная, застывшая или одинаковая для всех случаев: она может колебаться от резко бросающейся неправильности до неправильности едва уловимой, вызывающей скорее ощущение необычности или "неизбитости", чем ощущение прямого неприятия слова, возникшего в процессе речи» [Лыков 1977: 74]. И далее на примере слов оркестральность, колокольность исследователь показывает, что «эффект окказиональности и интенсивности ее проявления может быть связан с контекстом или ситуацией речи, с ее стилистическими свойствами» [там же: 75]. В силу неоднородности окказионализмов по структуре среди них выделяют две группы слов. Первая – окказионализмы, образованные по существующим в языке продуктивным словообразовательным моделям, представляющим словообразовательную систему. Окказионализмы, не «возмущающие» словообразовательную норму языка, А. Г. Лыков называет «системными» [там же: 74-75]. Слова, построенные по высокопродуктивным моделям деривации и выполняющие номинативные функции234, исследователи называют «потенциальными словами». «Иначе говоря – эти слова присутствуют в языковой потенции, они как бы заданы, запрограммированы слово234
По мнению А. Г. Антипова, выполнение потенциальными дериватами номинативной функции нельзя признать их релевантным свойством, поскольку отнесение к потенциальным словам системно-нормативных дериватов номинативного характера не позволяет четко отграничивать потенциализмы от неологизмов, проходящих узуализацию [Антипов 2006: 8-9]. 335
образовательной системой»; потенциальные слова и неологизмы представляют собой «сферу словообразовательной нормы» [Миськевич 1977: 44], поскольку «мерилом "правильности" словообразовательных инноваций признается формальное соответствие их возможностям системы языка, подчинение структурным закономерностям, заключенным в системе» [там же: 45]. Это суждение справедливо, если словообразовательную норму определять только как совокупность продуктивных словообразовательных моделей, но, как убедительно было показано Г. И. Миськевич, «структурный критерий не является абсолютным для словообразовательной нормы» и «понятие словообразовательной нормы шире понятия правильности» (правильности в указанном выше смысле) [там же: 58]: словообразовательная норма принимает и образования по «закрытым» словообразовательным возможностям. Так, отмечает Г. И. Миськевич, в 6070-е гг. на страницах газет встречались слова с суффиксом –ия (отвлеченное понятие совокупности): комсомолия, инженерия, пионерия. О том, что суффикс -ия мог участвовать в словообразовании в качестве самостоятельного элемента, свидетельствовало лишь одно слово братия (аристократия, демократия выделялись в группе заимствованных слов) [там же: 50-59]. Поэтому словообразовательная норма, считает исследователь, включает два аспекта: ориентация на существующие схемы как тенденция (допускается возможность реализации по малопродуктивным моделям и вероятность отклонений от существующих схем) и обязательность коммуникативной нагруженности инновации (номинативная функция как абсолютный критерий нормы) [там же: 60]. «Потенциальные слова» составляют «запасник» словообразовательной нормы [там же], в узусе им обычно соответствуют словообразовательные лакуны или дублетные, имеющиеся в языке именования [Антипов 2006: 9]. Если в языке имеются дублеты, то образование окказионального характера по продуктивной модели можно считать отклонением от нейтрального варианта нормы. Вторая группа – «несистемные окказионализмы», которые «…значительно легче выделяются своей словообразовательной экстравагантностью на общем фоне привычных канонических слов», так как «их словообразовательная структура не соответствует нормам языка» [Лыков 1977: 75-76], то есть окказионализмы в узком понимании. Среди этой группы окказионализмов выделяются две подгруппы: 1) слова, образованные по непродуктивной или малопродук336
тивной модели, и 2) слова, образованные по «окказиональной (речевой) модели» [Ханпира 1966: 154]. Примером слов второй группы Эр. Ханпира считает слово терроропевты (террор + терапевты), которое образовано принципом контаминации (наложения). Поскольку контаминация в последнее десятилетие превратилась в высокопродуктивный способ словотворчества (этот факт отмечается в [Николина 2003: 378]), то решающим критерием определения нормативности инновации оказывается ее номинативность. Независимо от широкого или узкого понимания окказионализмов, прагматически мотивированное их образование приводит к появлению слова или словоформы, не зарегистрированной в структуре языка. Признаком окказионализма считают творимость, а не воспроизводимость (функциональную повторяемость единицы в готовом виде). Этот же признак свойственен и для потенциализмов как некодифицированных дериватов. Поэтому и в том и в другом случае можно говорить об окказиональном словообразовании, заключающемся в образовании некодифицированного слова. Тем самым прием окказионального словообразования основан на отклонении от лексической нормы (представлении о составе лексических единиц в языке и отношениях между ними), но в случае с «несистемными окказионализмами» происходит также отклонение от нормы словообразовательной, поэтому они «сохраняют свою новизну, свежесть независимо от реального времени их создания» [Земская 1973: 228]. Окказиональное словообразование считают нормой разговорной речи, но перенос его в другие стили – приемом. Е. А. Земская пишет, что в основе окказионального словообразования лежит аналогия: «…Именно аналогия – это тот двигатель, который порождает все виды новых слов» [Земская 1992: 182]. И далее: «Без аналогического сопоставления, аналогического фонда новое слово не может быть понятно и, следовательно, не может существовать». В качестве аналогического фонда могут выступать словообразовательная модель, конкретный словообразец, ассоциативный фон» [там же: 184]. Поэтому адресант использует операторы отклонений таким образом, чтобы эта аналогия сохранялась. В последнее время защищено немало диссертационных работ, посвященных образованию и прагматике окказионализмов, напр.: [Бабенко 1997; Красникова 2004; Пацула 2005; Тропина 2007 и др.]. Поэтому лишь проиллюстрируем действия разных операторов. 337
Отклонения с операторами прибавления Окказионализмы, возникшие на основе принципа контаминации (в широком понимании этого термина), И. В. Пекарская вслед за Н. Е. Касьяненко называет «композитами», или «словамикомпозитами». Она выделяет 1) композиты синкретичного характера, основанные на последовательном соединении компонентов: композиты-сращения (компоненты механически присоединяются друг к другу, слияние слов, словосочетаний и целых предложений, скрещивание имен собственных) и композиты-сложения (смешение двух основ или основы и слова с соединительной гласной); 2) композиты аппликативного характера (наложение двух слов друг на друга с общей частью) и 3) композиты амальгамативного (смешанного) характера [Пекарская 2000б: 118-129]. Поскольку за термином «композит» закрепилось другое значение (слово, образуемое способом сложения, состоящим в морфологическом соединении двух или более корней / основ [БЭС 1998: 469], напр.: Иглопад, капель, морока / с гардеробом и детьми… (Г. Лысенко) – по аналогии со снегопад, мы его использовать не будем. Тем более что для разных случаев совмещения слов уже имеются терминологические наименования. При образовании окказионализмов «работают» следующие операторы совмещения: 1. Наложение235 двух слов с общей частью («междусловное наложение» [Земская 1992: 191]) : СкандаЛиза (название рассказа // ЛГ. 2005. № 34-35) – скандал + Лиза; Временами он стал жить затворником, и друзья-товарищи в шутку прозвали его ШИЗАТВОРНИК (Н. Гайдук. Жемчужина женского взгляда) – шиза (разг. шиза, образовано усечением от шизофреник) + затворник; 2. Наложение слов, при котором в одном или обоих словах теряется какая-то часть: – очень уж ты вредный. Ну прямо не Редькин, в Вредькин какой-то (М. Дружинина. Дело чести) – Редькин + вредный; Лжизнь – название повести В. Монахова о человеке, который мечтал стать писателем, был настолько поглощен чтением книг, что замкнулся в себе, в своих фантазиях и мыслях, был далек 235
Наложением называют только те факты, которые у нас поданы под номером 1, когда прочитываются оба слова. Примеры, подобные 2а и 2б, рассматривают как смешение (амальгамацию), а не наложение (см. [Пекарская 2000б: 124-125]). 338
от реальной жизни, от людей, которые его окружали (лжизнь = ложная жизнь); Мы пойдем мимо лжилищ под крестами и флагами… (А. Казанцев). – Лжилищ = могил, ложных жилищ (ложь + жилище)236; б) В последнее время вас так часто судят, что вы уже начали получать от этого удовольствие? Интересно, как этот вид привыкания называется? Лефортомания? Судомазохизм? Или фемидизм? (АиФ. 2002. № 41) – судомазохизм = суд + садомазохизм (это слово можно трактовать и как замену звука)237; лефортомания – по аналогии с наркомания; фемидизм от фемида + изм (суффиксальный способ); Я тебя – не то, чтоб разлюбил: Ты вошла в мою привыклопедию (Ю. Татаренко) – привык + энциклопедия; Министерство здравозахоронения (КП. 26.09.2003) – здравоохранение + захоронение; Тошнота! Баниально! (Баниально – не просто банально, а в противовес слову г е н и а л ь н о. Предел банального! На свою голову я придумал) (Р. Солнцев. Диалоги с Платоновой) – банально + гениально; в) «словообразование по аналогии с заменой предметнозначимого корневого компонента» [ЭСС 2005: 302-303]: – Так чего же рассиропились? Война. Разве непонятно (В. Кондратьев. Селижаровский тракт) – расстроились + сироп (оператор замены является промежуточным и приводит к наложению слов); Зацекалился на «Виа Гре» (Жизнь за всю неделю. 2006. № 18) – зацекалился = зациклился и Цекало. Наложение слов друг на друга, при котором у новообразования оказываются общие для обоих источников части (звуки, морфемы, части морфем, слоги, напр.: толпучка < толпа + толкучка, называют «телескопическим словообразованием» (термин М. М. Маковского) и «словослиянием» [Егорова 1985: 56], а образуемые единицы – 236
Как продукт контаминации («гибридные слова») рассматриваются подобные факты в [Бабенко 1997: 38]. Другие исследователи контаминацией считают только те случаи, когда оба компонента полностью сохраняют свой морфемный состав, а в таких явлениях видят усеченное словосложение [Егорова 1985: 58]. 237 Ср. подобные примеры: Красноярская трагедия про Бориса Бодунова (СГ. 09.10.2003) – от Годунова; Издранные места (СГ. 25.09.2003) – от избранные. 339
«словами-чемоданами», «телескопными словами» [Ягелло 2003: 58]238. На операторе вставки основан один прием – диакопа, состоящий во вставке в слово аффикса или другого слова239, напр.: Вино-шоу-кур. Развлекательная программа (МК в Красноярске. 13-20 апр. 2000 г.). Более продуктивным оказывается оператор сращения. Речевые единицы, являющиеся результатом сращения слов, называют голофразисом240 или инкорпорирующим сращением241: Из моло-
238
Телескопическими словами (словами-слитками) при широком понимании этого термина называют слова, образуемые не только наложением, но и изменением фонемы, заменой морфемы, усечением начала слова и т.д. [Ганеев 2004: 163]. 239 Узкое понимание диакопы как расчленение слова путем вставки в него номинативной единицы представлено в [Москвин 2006а: 97]. В ином понимании диакопа представляет собой вклинивание единицы в устойчивое словосочетание [Хазагеров, Ширина 1999: 223; Шевцова 2001: 98]. Этот термин используется также в качестве синонима тмезиса: нарушение контактного повтора «в результате вклинивания другого слова между повторяющимися компонентами» [Хазагеров, Ширина 1999: 273]. Иное понимание тмезиса (=диафора): разновидность вставной конструкции (парентезы), которая представляет собой вставку (вклинивание) в слово какой-либо языковой единицы (корневой морфемы, слова, предложения) [ЭСС 2005: 332]. 240 Голофразис – явление «…окказионального функционирования словосочетания или предложения как цельнооформленного образования, графически, интонационно и синтаксически уподобленного слову» [Арнольд 2002: 135]. Большое количество примеров новообразований от словосочетаний и «отпредложенческого словообразования» представлено к книге В. З. Санникова «Русский язык в зеркале языковой игры» [Санников 1999: 169-174]. 241 Термин «"инкорпорирующее" сращение» Н. А. Николина использует как более широкое, предлагая среди «"инкорпорирующих" сращений» выделять две группы: 1) «голофрастические сращения», базой для которых служит предложение, и 2) «слияния» – «сращения, представляющие собой объединение компонентов сочиненного ряда или отдельных членов предложения, не входящих в его грамматическую основу, а также сочетание синтаксически служебного слова и члена предложения» [Николина 2003: 381]. Используется такого рода прием «для фразеологизации речевого 340
дежи только одна влюбленная парочка, которая не отлеплялась друг от друга всю неделю. Так и ходили «тянитолкаем» – четыре ноги. Две головы и одно туловище (Е. Лемге. Ведьма по наследству?); …Это тебе не волк-зубами-щелк… (В. Нешумов. Места); В общем, стал мой день рожденья / Днем-от-скуки-избавленья! (М. Дружинина. День рождения); Жил на свете / Жилдабыл, / С Былдажилом / Он дружил… (Я. Сатуновский). Особый случай – сращение разноязычных морфем («макароническое словообразование» по [Москвин 2006а: 158]), напр.: Где вера в возрождение планетарного человека, гомо героикуса? (Ю. Бондарев. Вопросы) – по аналогии с гомо сапиенс; Максимус (Жизнь за всю неделю. 2006. № 8) – название статьи о Максиме Галкине, который строит себе огромный особняк. Особый прием – присоединение аффиксов к несуществующим корням. Об этом приеме как «построении слов с вымышленными корнями» писала Е. М. Земская [Земская 1992: 195]. На нем основаны знаменитая фраза Л. В. Щербы «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка», рассказ Л. С. Петрушевской «Пуськи бятые», некоторые строки в стихотворениях В. Хлебникова242. Попытка истолкования таких слов заключается в том, что «прежде всего необходимо отыскать аналогии со словами, со смыслом тех слов, которые существуют в языке: сначала возникают ассоциации звучания незнакомого слова со звучанием какого-либо известного слова, что в свою очередь вызывает и смысловые ассоциации» [Ягелло 2003: 93]. Отклонения с операторами убавления Окказионализм может быть результатом синкопы – удаления говорящим звука / звуков из середины существующего в языке слова: заумчивое выражение лица; день, отданный телезору (примеры из [Клюев 1999: 231]). Такой прием может быть назван приемом синкопического словообразования. фрагмента», оценки предмета в широком смысле и выделения знака, воспринимаемого автором как единый образ (понятие) [там же: 381-382]. 242 Эти и другие тексты подробно анализируются в [Успенский 2007: 163-233]. 341
Сведéние слова к начальной букве (звуку) – один из вариантов апокопы. Особой экспрессией обладает сведение фамилии известного политического деятеля к начальной букве, «…если эта буква служит в языке знаком непристойного слова. Так, Жириновского обозначают Ж., Хасбулатова – Х.» [Земская 2000: 102]. На операторе усечения строится прием многократного усечения слова (с начала или с конца), порождающего новые слова (см. об этом приеме [Николина 2003: 383; Санников 1999: 68]), напр.: На автобусной остановке стояли, тояли, ояли, яли, ли и замерзли – многократное усечение слова приводит здесь к «гиперсемантизации форманта, когда он приобретает значение абстракции и новой референтности одновременно» [Николаева 1998: 262]. Усечение как оператор в случаях отклонения от словообразовательной нормы может быть также назван редеривацией. Напр.: – Ну-ка, иди сюда, негодяйка! – Неправда! Я годяйка! Еще как годяйка! (из разг. речи) – депрефиксация (ср. негодяйка); – Готова к семинару? – Как обычно… (смеется) – Ну ты пóрос! Че не готовишься-то? (из разг. речи студентов). Редеривацию иначе называют «обратным словообразованием» [Пацула 2005: 13]. Однако термин «обратное словообразование» используются и в другом, более узком, значении: использование корней или аффиксов (в отрыве от других морфем) в качестве самостоятельного слова243, напр.: В десять часов начинает вползать с улицы в переднюю маленький человек, или, как изволит называть его –ство, «субъект» (А. Чехов. Лист) – его -ство = «его превосходительство, высокопревосходительство, сиятельство и т.д.» [Санников 243
Ср.: «словообразовательная зевгма» – фигура, состоящая «...в использовании общей части ряда одноструктурных производных как основы для индивидуально-авторского неологизма, в роли которого "выступает морфема": сталинизм, ленинизм и прочие "измы" в политике [Москвин 2006а: 307]. Приведенный пример можно рассматривать как взаимодействие гомеологии и «лексикализации суффикса» (Вяч. Вс. Иванов) (разновидности «обратного словообразования»). Использование аффиксов в качестве слова называют также «высвобождением» аффиксов или аффиксоидов из состава слова [Земская 1992: 197]. 342
1999: 162-163]; В мире ежедневно умирают люди, /В мире ежечасно умирают люди, / В мире еже-еже умирают люди. (А. Нечаев). Зафиксированы случаи замены в русской речи полноценных слов такими формантами, как изм, веды, хозы, филы, манны, исты, изации, оиды, ианы; архи, лже и др.: [Норман 1994: 58-59]. Чаще, по наблюдениям Вяч. Вс. Иванова, лексикализуются морфемы, имеющие деривационное значение. Так, у Маяковского, наряду с ироническим использованием суффикса –изм, встречается –истов (Р.п. мн. ч.), у Хлебникова как отдельное слово употребляется словопроизводящий суффикс –ец (в форме родительного множественного – ецов) [Иванов 2004: 75]. «При лексикализации, – пишет исследователь, – значение сужается и специализируется. Явление показывает отсутствие жестких границ между этими уровнями языковых значений. Хотя теоретически можно стремиться разграничить исследование только грамматических значений словоформ и синтаксических словосочетаний и только лексических значений слов (как словарных единиц) и фразеологических сочетаний, число промежуточных случаев оказывается большим. Деривационные значения легко становятся реляционными, и поэтому словообразование соединяет лексику и грамматику» [там же: 76]. Отклонения с операторами переноса Окказионализмы могут возникать в результате трансформаций звукового (а значит, и графического) облика слова, напр.: Диплом – на пятерку, аспирантура (Нина шутила – апсирантура)…(А. Матвеева. Па-де-труа) – образование окказионализма в результате перестановки звуков / букв или их сочетаний в составе слова. Такой прием называют анаграммой. «Чистый случай инвертированной перестановки слогов» в слове именуют верланом [Дюбуа и др. 1986: 118]. Тем самым верлан представляет собой разновидность анаграммы. Термин «анаграмма» используется и в более широком значении. «Анаграмма, – читаем в «Теории красноречия…» А. Галича, – перестановка буквъ въ извѣстномъ словѣ или краткомъ предложенiи, дающая другое слово и другой смыслъ» [Теория красноречия… 1830: 32]. Такое же понимание анаграммы у Е. В. Клюева: переста343
новки в смежных словах групп звуков или «миграция некоторой группы звуков в состав смежного слова»: пролетара диктатуриата, близозоркость и дальнорукость, петушка и кукух, деревостойкие морозы, мисолапые кошки и др. [Клюев 1999: 226-227]. Однако если так понимать анаграмму, то подобные окказионализмы можно трактовать и как результат контаминации: петушка = петух + кукушка. Т. Г. Хазагеров и Л. С. Ширина понимают анаграмму более широко: как разновидность графической или звуковой инструментовки, состоящей в том, что одно слово или словосочетание образуется путем перестановки части букв или звуков другого: Мне мука, тебе – кума; Харитон Макентин (Антиох Кантемир) [Хазагеров, Ширина 1999: 198-199]. Похожее определение анаграммы дается в словаре О. С. Ахмановой («слово или словосочетание, образованное путем перестановки букв, составляющих другое слово, как криптографический прием или же как стилистический прием образнокаламбурного сближения и переразложения слов»), но приведенный ею пример из русского языка А роза упала на лапу Азора [Ахманова 2004: 43] другими исследователями трактуется как палиндром [Хазагеров, Ширина 1999: 250]. Представленные примеры анаграммы (за исключением Харитон Макентин) не являются окказионализмами, поэтому прием образования окказионализма на основе перестановки в слове звуков / букв или их сочетаний считаем целесообразным называть «приемом метатезного словообразования» (по аналогии с «приемом редупликативного словообразования»). В. П. Москвин называет такие явления «фигурой метатезного словообразования» – каламбурная перестановка частей слов: Это настрадал еще Предсказамус (из телепередачи); Нельзя ли у трамвала / Вокзай остановить? (С. Маршак) [Москвин 2006б: 310]. Если же перестановка звуков / букв происходит в смежных словах, то оператор перестановки является промежуточным, он «работает» на контаминацию слов: Вертинка Пластинского (название стихотворения Б. С. Кузина). Для акрофонической перестановки (перестановки букв или слогов в словах) внутри синтагмы или предложения, создающей слова с новым значением, используется термин контрапéтрия [Тихонова 2001: 95]. В кругу окказионально-речевого словообразования выделяют также «окказиональную реаббревиацию» – прием, состоящий в том, что слово предстает в контексте как аббревиатура, которая соответствующим образом расшифровывается [Лыков 1977: 66]. Напр.: 344
Из юмора одесских «джентльменов»: – Сэр, в какую партию вы рекомендуете мне записаться? – О, здесь большой выбор. ПСИХ – Партия Социалистическая Интернациональная Храбрых; СОРТИР – Союз Объединенных Радикалов, Трудовиков и Республиканцев; ЗАДНИЦА – Западная Авангардная Демократическая Рационально-Интернациональная Центристская Ассоциация; ПУРГЕН – Партия Умеренных Радикалов – Граждан Еврейской Национальности (анекдот, приведенный в кн. [Таранов 2002: 324]); Кто пьет коньяк при новой цене? ВОРы и ЧИЖи. Почему? Непонятно? Потому, что ВОР – это высокооплачиваемый работник, а ЧИЖ – чрезвычайно интересная женщина (Анекдоты от Михалыча. М., 2005) – оператор реаббревиации. В. П. Москвин трактовку слова как аббревиатуры называет «нотариконом» [Москвин 2006а: 189]. Подробно «словааббревиатуры с двойной мотивацией» рассматриваются в [Федосеева 2005]. Е. А. Земская пишет о «маскировке аббревиатур под обычное слово» (сближении аббревиатуры с обычным словом) и приводит такие примеры: БАРС – Банк развития собственности, ГраД – партия «Гражданское достоинство», ШАРМ – шоу армянских мужчин [Земская 2000: 120]. Образуемые слова называют «словамиакронимами», или «словами-аббревиатурами с двойной мотивацией» [Федосеева 2005: 131]. Происходит сдвиг, смещение знака по омонимической линии. Речевым приемом исследователи называют транспозицию, под которой в словообразовании понимают переход слова из одного разряда в другой в рамках той или иной части речи, а также переход слов из одной части речи в другую. Транспозиция как деривационный процесс и как речевой прием, по мнению Л. В. Кушниной, «…сводится к элиминированию определяемого компонента словосочетания, в результате чего зависимый компонент перемещается в позицию устраненного независимого компонента и начинает выполнять новые для него синтаксические функции. Внешние морфологические показатели определяющего компонента остаются при этом неизмененными, а его лексическая семантика усложняется» [Кушнина 1989: 120], напр.: И вроде бы не слышит, как «строптивые» ворчат (Правда. 01.12.1985) [там же: 121]. Примеры, которые приводит исследователь в статье, связаны с использованием прилагательного / причастия в функции существительного и могут рассматриваться в 345
качестве разновидности метáбазиса, под которым понимают «употребление частей речи в несвойственной им синтаксической функции » [Ахманова 2004: 230], напр.: Сейчас, даже при искреннем желании обмануться, почти невозможно было поверить в соответствие продаваемого внешнего подразумеваемому внутреннему (В. Пелевин. Generation «П»). Оператор, лежащий в основе транспозиции, назовем конверсией, поскольку понятие транспозиции используется также применительно к тропам (говорят о транспозиции лексических значений и транспозиции грамматических форм). Отклонения с оператором расчленения Оператор расчленения лежит в основе т.н. «сегментации» слова (подробно об этом приеме см. [Николина 2007]) и его разновидности – «псевдочленения» слова («членения не по морфемным стыкам, а вопреки им» [Бабенко 1997: 39]): Улица. Лица У догов… (В. Маяковский. Из улицы в улицу) – окказиональное членение слова в составе хиазма; Пол Уэллер и Мэри Макартни трогательно уцепились друг за дружку верхними конечностями и де-монстра-тивно обменивались поцелуями (СГ. 24.08.1995). Отклонения с несколькими операторами На совмещении операторов построен, например, окказионализм СМАКсимовым, представляющий также графон: оператор сращения (ср. С Максимовым) + наложение на СМАК. Особо следует сказать о приеме, связанном с образованием «экспрессивных двухкомпонентных единиц» (С. Г. Николаев) по типу кошки-мышки или шуры-муры244. 244
Ср. с «пикники да микники», «рюши на ней, и трюши» – «инициальный антистекон» и «инициальная протеза» как разновидности «фигур окка346
Что касается единиц типы кошки-мышки, то С. Г. Николаев пишет об отсутствии для их обозначения общепринятого термина: «Так, Н. Д. Овсянико-Куликовский и С. И. Абакумов рассматривают их как особый тип словосочетаний; Н. Н. Дурново называет "парными словами"; В. Л. Архангельский трактует как фразеологические единицы; М. И. Привалова, А. И. Мельникова, К. Л. Ряшенцев предлагают именовать "сближениями"; А. Т. Хроленко считает возможным пользоваться терминами "гендиадис" и "двандва"». Сам С. Г. Николаев пишет о них как об «экспрессивных двухкомпонентных единицах со значением плюральности» [Николаев 1988: 73]. В статье С. Г. Николаева представлена аргументация в пользу того, чтобы считать такие единицы словами, несмотря на свойства двуударности (наличие побочного и главного ударения) и двуоформленности (при склонении изменению подвергаются оба компонента), которые сближают эти структуры со словосочетаниями. Это непроницаемость (невозможность вставить между компонентами слова или ряда слов так, чтобы не произошло смыслового сдвига), определенное фонетическое сходство компонентов и относительно фиксированный порядок расположения компонентов. При объединении двух слов, замечает исследователь, происходит актуализация тех сем, которые обнаруживают взаимную связь, сходство, родство [там же: 74-75]. Единицы типа кошки-мышки другие исследователи рассматривают вместе с единицами типа шуры-муры в рамках одного приема, который называется по-разному: «повтор-отзвучие» [Земская 1992: 87], «фокус-покус прием», «прием рифмованного эха», «эхоконструкция». Он заключается в том, что какое-либо слово повторяется с изменением начального звука или группы звуков (напр., фокус-покус, страсти-мордасти), в результате получается своеобразный «рифмованный прицеп, как бы отзвучие к базовому слову» [Янко-Триницкая 1968: 48-52]. Тем самым прием образуется в результате редупликации (удвоения), которую определяют как «…способ образования слов, описательных оборотов, фразеологических единиц с помощью полного или частичного воспроизведения исходного слова: еле-еле, горько-прегорько, меньше и меньше, честь по чести»
зиональной деривации» [Москвин 2006б: 401]. Этот прием в функции стилизации под русско-кавказский пиджин описан также в [Иванов 2004: 142]. 347
[Матвеева 2003: 234]245. Если редупликацию понимать не только как способ образования слов / оборотов, но и как любой прием, основанный на удвоении, то описанный прием можно рассматривать в качестве одной из его разновидностей, как это делает В. П. Москвин (такие конструкции он, как и другие исследователи, называет «рифмованным удвоением»246 [Москвин 2006а: 291]). Однако заметим, что в словах кошки-мышки и страсти-мордасти, в отличие от фокуспокус, редупликации нет. Вместе с тем, по наблюдениям С. Г. Николаева, они сходны в том, что компонент, начинающийся с губного или губно-зубного согласного звука, стоит на втором месте [Николаев 1988: 74]. В начале второго слова может происходить не только замена звука, но и его «приращение», как пишет С. Г. Николаев (аты-баты, эники-беники). Этот прием он называет «повтором с асемантизированными элементами» [Николаев 1985: 144]. Таким образом, перед нами синкретичный прием, основанный на принципе контактного повтора с искажением фонетической формы: заменой или добавлением звука/звуков в начале второго повторяемого компонента (в производящем слове). Поскольку замена буквы или звука в слове именуется антистеконом [Москвин 2006б: 381], а добавление звука [там же: 380] в начале слова называется протезой [Клюев 1999: 232], можно сделать такой вывод: перед нами прием редупликативного окказионального словообразования в сочетании с антистеконом или протезой247. 245
Такого рода рифмованные ударения описываются О. Ю. Крючковой. Единицы типа фокус-покус возникли в других языках (в том числе в русском) под влиянием тюркских языков, где рифмованные удвоения являются стилистически нейтральными словами. Многие единицы, образованные на основе дивергентного удвоения с заменой начального согласного первого компонента губно-губным согласным в составе второго компонента, являются заимствованными: фокус-покус в из нем. Hokuspokus, хурда-мурда из перс. xurda-murda [Крючкова 2004: 77-78]. 246 В качестве синонимов он приводит не только термины «"фокуспокус" прием» и «повтор-отзвучие», «прием рифмованного эха», но и – думаем, ошибочно – «гендиадис», который имеет в его словаре совершенно другое значение. 247 В. П. Москвин пишет, что, поскольку концовки производного и производящего слов совпадают, рифмованное ударение сопровождается парономазией (сближением слов по созвучию) [Москвин 2006а: 291]. Очевидно, о парономазии здесь говорить не стоит, поскольку парономазия – прием, 348
Приведем свои примеры этого приема: «Павлин-мавлин» (название ресторана; проспект Свободный, г. Красноярск); Хорошо, хоть изредка от родителей из деревни картошки-моркошки привезут, а то бы вообще хана (З. Кузнецова. Он обязательно вернется…). Или: историк моды А. Васильев в программе «Детали» (СТС. 05 апреля 2007 г.) говорит, что есть женщины, которые из-за боязни потерять мужа, имеющего красивую секретаршу, надевают кофточки с глубоким вырезом и думают: «Я на всякий случай буду сексипэкси». В большинстве случаев подобные конструкции имеют шутливо-пренебрежительную окраску [Арнольд 2002: 169], они «снижающие», иногда связанные с «дискредитацией описываемого» [Санников 1999: 168-169], хотя могут использоваться в звукоподраоснованный на звуковом сближении разных слов и не являющийся отклонением от словообразовательной нормы, в отличие от рассматриваемых случаев, где мы имеем дело с одним словом, образованным на основе редупликации как способа словообразования. Некоторые образованные таким способом слова широко употребляются в узусе и вошли в систему языка (произошла нейтрализация приема), например шуры-муры (‘то же, что шашни’), гоголь-моголь (‘кушанье из сырых яичных желтков, стертых с сахаром’). Ср.: шаляй-валяй с пометой прост. ‘кое-как, небрежно, плохо’) [Ожегов, Шведова 2003: 902, 135, 891] и житье-бытье с пометой разг. (‘жизнь, существование’). Можно заметить, что перед нами во всех случаях рифмованные образования, которые «…представляют в лексике запечатлевшийся след естественного стремления говорящих заставить играть звуковой аспект речи» [Ягелло 2003: 33]. По наблюдению В. П. Москвина, названный прием может создаваться повторением концовки слова: страсти-мордасти, танцы-шманцыобниманцы; Шпрехензидейч Иван Андрейч [Москвин 2006а: 291]. Названные слова можно трактовать иначе. В слове страсти-мордасти имеет место словосложение парономазов, один из них окказиональный. В слове танцы-шманцы-обниманцы представлено и редупликативное словосложение в сочетании с антистеконом (танцы-шманцы), и сложение парономазов (танцы-обниманцы) на основе ассоциации (танцы, в которых «обнимаются»). Что касается сочетания шпрехензидейч Иван Андрейч, то здесь мы видим макароническую речь, основанную на сочетании «макаронимического словообразования» (термин В. П. Москвина) – объединение разноязычных частей слов: Андр-ейч), «отпредложенческого» макаронизма (шпрехензидейч) и звуковой эпифоры (-ейч). 349
жательной (шурум-бурум) или «музыкальной» функции (халли-галли) [Москвин 2006а: 291]: – Милицию всю перевешал бы, чтобы не пугала добрых людей, эти ваши штучки-дрючки – клубы разные и школы позакрывал, а настроил бы вместо них кабачков с девочками, и чтобы везде для меня было все бесплатно…(Н. Волков. Не дрогнет рука); – Училка-мучилка (из передачи «Большая стирка». 25.07.2007); – Однако ты чего туда поперся, Владимыч, на эти танцышманцы (А. Афанасьев. Комариное лето); – Зимой, мол, чик-брик и вывезем готовенький лес к Енисею (Н. И. Волокитин. Осень в мысах); – Уси-пуси, – пишет она, – родной, полежи со мной! (А. Нечаев); Фыфки-пыфки (название игры // Игробокс. Сборник игровых технологий. Красноярск, 2006); – Так не бывает, –- сказал толстяк. – Небось расчет она оформила. В наше время без отдела кадров не похитишь. Всякие бумажки-шмажки (Д. Гранин. Иду на грозу). В словах типа друзья-раздрузья, туманы-растуманы редупликация совмещается с приставочным способом словообразования. Если придерживаться широкого понимания протезы как добавления в начало слова морфемы [Дюбуа и др. 1986: 101-102], любых «лишних элементов» [Клюев 1999: 232], то здесь также можно говорить о синкретизме приема редупликативного словообразования с протезой: Ирка его терпеть не может, отец тоже, видно, раскусил, что это за фрукт такой, да только слова поперек ему сказать не смеет, какие-то у них там счеты-расчеты межу собой есть… (Н. Волков. Не дрогнет рука). Некоторые рифмованные единицы (виндал-миндал, страстимордасти, тары-бары-растабары, шуры-муры, финти-винти, зелень-мелень, шаляй-валяй, штучки-дрючки) широко распространены в устной разговорной речи, в этом смысле они узуально нормативны, 350
однако использование таких единиц, например, в художественных текстах можно считать приемом. Они могут употребляться и в «расщепленном» виде, напр.: – Сядет, говорит, за стол и рассказывает… Часа три битых говорит… И политика, и малитика, и история-кистория…(А. Бухов. Громоотвод); А мы тут и про кольца, и про шмольца, и про всякие женские штучки (МК. 815.04.1999). Отклонение с несколькими операторами представлено в следующем тексте: Жили будущим, грядущим – Светлым Бу, цветущим Гря, Бу и Гря, буигря, жутким пламенем горя (Ю. Мориц) – пример из [Николина 2003: 383]. По мнению Н. А. Николиной, здесь мы имеем прием, который она называет «нелинейной репрезентацией слова». Апокопированные (отсеченные) части слов используются как самостоятельные лексемы с последующим образованием с их помощью окказионализма (буигря). Таким образом, перед нами сочетание двух приемов окказионального словообразования: лексикализация частей слова, образуемых в результате апокопы (оператор усечения), как разновидность «обратного словообразования», и голофразис (буигря), основанный на операторе сращения. Термин «нелинейная репрезентация слова» считаем удачным, поскольку он применим к случаям употребления слова «по частям». Типичный пример, который приводят многие исследователи: – А вы знаете, что СО? А вы знаете, что БА? А вы знаете, что КИ? Что СОБАКИ-ПУСТОЛАЙКИ Научилися летать? (Д. Хармс. Врун). А. П. Квятковский в подобном случае усматривает слоговую парцелляцию [Квятковский 1998: 231]. В. З. Санников в этом отрывке из стихотворения Д. Хармса видит «прием расчленения слова и "размазывания" его по фразе» [Санников 1999: 64]. Такого рода иллюстрации В. П. Москвин квалифицирует как диакопу – расчленение слова путем вставки в него другой номинативной единицы. И тут же отмечает, что диакопа «известна и как прием словообразования: Я уже почайпил (К. Чуковский) [Москвин 2006а: 98]. Думаем, что приведенные иллюстрации (с расчлененным словом собаки и со словом почайпил) различны с точки зрения операто351
ров: в первом случае действует оператор расчленения с последующей лексикализацией частей слов, во втором – оператор расчленения со вставкой в одно слово другого слова (аппликация как разновидность контаминации, по И. В. Пекарской). Значит, эти приемы целесообразно разграничить терминологически. Синкретичный характер имеют многие окказионализмысращения (голофразисы), напр.: Осаду и приступы многих молодых ухажеров, ухарей гитаристов-«бардов-гусаров» зрит-видит, но усмехается молодая красавица…(В. Нешумов. Места) – голофразис плеонастического характера (оператор сращения + оператор повтора); Как будто бы вынуто-вымыто-выгнуто утро огляда… (В. Нешумов. Места) – голофразис с гомеологией (оператор сращения + оператор повтора морфем). Или: Где ты шлялся, друг сердечный, / Из каких ты стран-сторон? (В. Горбунов. Тени северного света). Сочетания типа поглядеть-посмотреть, подрастиподняться, по мнению Е. А. Земской, не имеют статуса слов, хотя их нельзя признать и синтаксическими перечислительными конструкциями, это «гибридное явление ("недослова", но не вполне синтаксические построения)» [Земская 1992: 44].
2.4. Риторические отклонения от морфологической нормы К морфологическим нормам мы будем относить нормы формообразования и нормы употребления грамматических форм слова (т.е. разновидностей одного и того же слова, отличающихся друг от друга грамматическими значениями). Следовательно, можно говорить о двух типах риторических отклонений от морфологической нормы: об отклонении от норм образования форм слова и отклонении от норм употребления морфологических форм. Различают словоизменительные (формообразовательные) категории, которые «не вытекают из лексической природы слова» [Шендельс 1972: 50], и 2) несловоизменительные (неформообразовательные, классифицирующие, классификационные) категории, которые часто базируются на лексической семантике. Члены словоизменительных категорий представлены формами одного и того же слова в рамках его парадигмы, члены же классификационных категорий не могут быть представлены формами одного и того же слова. Поэтому 352
в строгом смысле нормы формообразования – это нормы словоизменения. В широком смысле нормы формообразования – нормы образования форм, выражающие как словоизменительные, так и классифицирующие категории. Прагматически мотивированные отклонения от этих норм могут быть названы приемом окказионального формообразования (по аналогии с приемом окказионального словообразования). Отклонения от норм формообразования на основе оператора замещения Отклонение от норм формообразования осуществляется на основе оператора замены нормативной в литературном языке единицы на ненормативную, напр.: Умирать приезжай в Россию, / Поживя на чужих харчах (Г. Кудрявская. Подруге) – нормативно было бы пожив (так как пожить – глагол сов. вида); Он задал Данилову еще несколько вопросов, последний – про то, как долго идет письмо на фронт и с фронта. Все люди – человеки, всех волнует одно и то же… (К. Симонов. Живые и мертвые); Великий мух, или один день из жизни Мушляндии (название рассказа К. Бебекина). В учебнике «Школьная риторика» для 5 класса (1 часть, под ред. Т. А. Ладыженской) одно из заданий связано с определением того, нарушение каких норм нарочито введено в стихотворении Б. Ю. Нормана: Слыхали эту новость? У нас в шкафу живет Тот, кто любит овощ, Любой продукт сжует. Он яблок, помидору И всю картофель съест, Баранок без разбору Умнет в один присест. Прожорлив, как собака, Тот, кто живет в шкафу: Пропала тюль, и тапок, И туфель на меху. Он съел жилету кунью И дедовский папах, 353
Персолем и шампунью Который весь пропах. Так кто ту путь проделал Из шкафа в антресоль? Мышь ненасытный, где он? Где он, огромный моль? Вы скажете: не верим! Чтоб все пустить в труху? …Но есть обжора – Время – Вот кто живет в шкафу. Перед нами сознательная замена нормативной формы существительных на ненормативную. Такая замена приводит к нарушению правил грамматического согласования. Риторически обусловленное нарушение правил согласования морфем или синтагм, будь то согласование по роду, числу, лицу или времени, называют сúллепсисом [Дюбуа и др. 1986: 143; Пекарская 2000б: 169]. Различные типы несогласованности подробно рассмотрены в [Пекарская 2000а: 168176]. Поэтому ограничимся некоторыми примерами: Мне не за чем под одеяло / К вам лезть в голубой пижама (Б. С. Кузин); …коли я стану ему помогать в ловле карася так же, как теперь – штиблеты считай что на ногах. Кожаные! Коричневого цвету (В. Астафьев. Последний поклон); Скорик понял: свободных местов в шайке нету, вот он о чем (Б. Акунин. Любовник смерти). Окказиональные варианты грамматических форм рода, числа, падежа существительных, а также грамматических форм имен прилагательных и числительных описаны в [Курепин 2006].
354
Отклонения от норм употребления морфологических форм с оператором переноса по контрасту К отклонениям от морфологических норм традиционно относят случаи употребления морфологических форм в несвойственном им значении, то есть грамматические тропы. Под грамматическим тропом (грамматической метафорой, гетерозисом, аллеотéтой248) понимают «стилистический прием, состоящий в употреблении какой-либо грамматической формы (формы числа, лица, времени, вида, залога, наклонения) не в своем прямом (собственном) значении; иными словами, использование одной грамматической формы для передачи содержания (значения) другой грамматической формы (как правило, с добавлением какой-либо коннотации) » [ЭСС 2005: 103]; «перенос грамматической формы с одного вида отношений на другой с целью создания образности» [Шендельс 1972: 51]. Как и лексический троп, грамматическая метафора основана на переносе (перенос допустим только в контексте или при поддержке ситуации) и используется с целью создания образа [там же: 51]. Од248
Понятие грамматической метафоры связывают с именем Э. Оскара, который ввел его в научный обиход [Власова 2007: 18]. Термин «аллеотета» как синоним «грамматического тропа» дан в книге [Хазагеров, Ширина 1999: 222]. У В. П. Москвина термин «аллеотета» дается как многозначный: 1) фигура контраста, основанная на противопоставлении однокоренных слов или форм слова (синоним грамматическая антитеза); 2) употребление одной грамматической формы в значении другой (синоним гетерозис) [Москвин 2006а: 51, 83]. У Т. Г. Хазагерова и Л. С. Шириной грамматическая антитеза – лишь разновидность грамматического тропа [Хазагеров, Ширина 1999: 221]. Тем самым возникает вопрос: можно ли отнести грамматическую антитезу к аллеотете в ее узком понимании (как грамматического тропа)? Названные исследователи приводят следующие примеры этого приема: О, будьте уверены, что Колумб был счастлив не тогда, когда открыл Америку, а когда открывал ее (Достоевский) [там же: 207]; И то, что было – не будет вновь (З. Гиппиус), Все знают, как сделан «ДонКихот», но никто не знает, как его сделать (К. Федин) [Москвин 2006а: 51]. Хотя антитеза и выражена грамматически, грамматического тропа перед нами нет, так как грамматические формы используются в их собственных значениях. 355
нако перенос значения в грамматическом тропе всегда осуществляется в рамках одной грамматической парадигмы, в отличие от лексической метафоры, в которой перенос происходит между разными парадигмами (тематическими группами) [там же: 53]. Е. И. Шендельс выделяет три пути образования метафорического переноса: 1) путь, характерный для словоизменительных оппозиций, – транспозиция грамматической формы в сферу употребления другой грамматической формы той же системы оппозиций, в результате чего возникает «внешний контраст» между семами основного значения перенесенной формы и значением контекста; 2) путь, типичный для классифицирующих оппозиций, – преодоление ситуационной несовместимости форм, контраст между формой слова и ситуацией; 3) путь, характерный как для словоизменительных, так и для классифицирующих оппозиций, – преодоление несовместимости грамматического значения формы и лексического значения слова, выступающего в данной форме, в результате чего возникает «внутренний контраст» между формой и ее наполнением [там же: 52-53]. «Метафорическая сила классифицирующих категорий благодаря их связи с лексическим значением наиболее велика и ярка», – пишет Е. И. Шендельс [там же: 51]. Рассмотрим каждый из путей образования грамматического тропа в русском языке. 1. Грамматические тропы, образованные по первому пути, достаточно хорошо описаны как в грамматиках, так и в стилистике и риторике. Это, как правило, транспозиции временных форм глагола, употребление не в собственном значении личных форм глагола и личных форм местоимений (см., напр.: [Бондарко 1971: 95-96; Санников 1999: 77-84; Голуб 1999: 277-284, 295-312; Стилистика... 2004: 312-324; Розенталь 1998: 184; Хазагеров, Лобанов 2004: 243-245; Горшков 1996: 75-80; Ганеев 2004: 136, 147-151; Полторацкий 1975: 132-148; Русская грамматика 2005: 619-620, 630, 632 и др.]). Напр.: Прилетит как-нибудь в хорошую погоду в деревню на самолете, сядет у единственного магазина, заберет Татьяну, и летят они дальше (АиФ. 2005. № 12) – использование глагола настоящего времени в значении будущего; Он пришел с таким видом, что они не довольны. Они с большой буквы, всея Руси и Тернополя (Л. Петрушевская) – употребление местоимения третьего лица мн. числа вместо требуемого контекстом единственного, или «множественное величия»; Сколько горцев вывозилось в Москву для совершения заказ356
ных убийств и исчезло потом на родине – пойди арестуй их там (МК. 18-25.11.1999) – употребление глагола в повелительном наклонении в значении изъявительного; Нет, не потому она не пришла, что мы праздновали день лицея, следуя истинной дате основания Царскосельского лицея. Не надо обманывать себя. А потому она не пришла, что ты ей стал безразличен (Р. Солнцев. Диалоги с Платоновой) – ты вместо Я. 2. По второму пути образуются грамматические тропы, основанные на несовместимости реальной жизненной ситуации с выбором родовой формы: использование окказиональной формы женского рода для обозначения лица мужского пола, употребление среднего рода для обозначения лица женского или мужского пола. Напр.: Но тут в яме что-то заворочалось, донесся знакомый визгливый голос. Пал Палыч! (А. Титов. Лето трех мыслителей); Постояв минут десять (пока за стеной чавкало, сопело, ругалось, трескало по шее, булькало «какавом»), Лена ни с чем ушла… (Л. Петрушевская. Никогда) – такой переход от мужского/женского рода к среднему в отношении людей или наоборот называют «переключением рода» [Шендельс 1972: 55]. В рамках группы тропов, основанных на преодолении ситуационной несовместимости форм, Е. И. Шендельс рассматривает также прием персонификации, эффект которого, по ее мнению, связан с возбуждением в нашем сознании нейтрализованной в определенных тематических группах (в сфере названий неодушевленных понятий) семы категории рода. В качестве примера исследователь приводит слова Волга-матушка и батюшка-Рейн [там же: 55-56], в которых, с нашей точки зрения, присутствуют только метафорические эпитеты. 3. Грамматические тропы, образованные по третьему пути, – это употребление абстрактного существительного, имеющего значение неисчисляемости, во мн. числе; использование глаголов, относящихся к человеческой деятельности, в безличной форме так, как будто источник действия неизвестен [там же: 53], использование окказиональных форм причастий, степеней сравнения и др., напр.: Хрустали и бирюза, Родины слышит, па де катр, мой плач, ледяные пальцы – все ушло, исчезло, все осталось там, в раю, тут другое дело (Л. Петрушевская. Незрелые ягоды крыжовника) – употребление неисчисляемых абстрактных существительных в форме мн. числа, или «множественное поэтическое» (по [Хазагеров 2002: 132]), «лексико-грамматический оксюморон» [Шендельс 1972: 54]; С пяти ут357
ра плотная очередь из мужчин и женщин шипит что-то вроде «Вас здесь не стояло», только по-французски (Хак. 26 сент. 1997 г.); Они грызли семечки, смеялись, выбирали у овощных лотков помидоры покрепче, даже переругивались в коротких очередях: – Вас здесь не стояло (Л. Райберг. Пальто от маленького) – такое сочетание слов неоднократно встречалось нам в разных источниках, что свидетельствует о его тенденции к закрепленности в узусе. В эту группу тропов Е. И. Шендельс относит также метафорическое употребление падежей, которое заключается в том, что в определенной синтаксической падежной позиции выступает не то существительное, которое привычно связано с этой позицией. «Сама конструкция построена по правильной, вполне грамматической модели, но она лексически избирательна, метафора же нарушает это ограничение и создает необычную сочетаемость» [там же: 53]. В качестве одного из примеров исследователь приводит употребление глагола играть со словом в винительном падеже, обозначающим не музыкальное произведение или имя композитора, а явление, относящееся к другой тематической группе: И он играл теперь чудо этих яблонь и острое чувство надежды, восхищения, которое испытывали люди, пришедшие сюда и как бы ставшие частью этого сада. Он играл блеск солнца на молодой траве, прохладу еще не согревшейся земли, качанье веток под осторожным ветром… (В. Каверин. Косой дождь). Этот случай, по мнению исследователя, в то же время иллюстрирует метафорическое использование классифицирующей оппозиции переходность / непереходность [там же: 54]. Считаем, что в последнем примере представлен прием метонимии. Ср.: И он играл музыкальное произведение, и звучавшая музыка передавала его восприятие чуда яблонь в саду, вызывала острое чувство надежды, восхищения у пришедших сюда людей, которые почувствовали себя как бы частью этого сада. Он играл под впечатлением блеска солнца на молодой траве, прохлады земли… стараясь отразить все это в музыке. Рассматриваемые в этом параграфе явления точнее было бы назвать «морфологической метафорой»249 и рассматривать ее как тип 249
Замечание о том, что название «морфологическая метафора» применительно к явлениям, имеющим морфологический характер, было бы точнее, встречаем в работе [Береговская 1998: 125], в которой есть и такое суждение: «Не стоит, конечно, посягать на устоявшийся уже термин "грамма358
грамматической метафоры, которая имеет место и в синтаксисе (см. об этом далее). Считаем, что необходимо различать собственно грамматический троп и троп лексико-грамматический, в создании которого, говоря словами Е. И. Шендельс, «участвуют на равных правах лексика и грамматика» [там же]. К выделенным Е. И. Шендельс трем группам грамматических метафор Э. М. Береговская добавляет еще две группы: 1) контраст между гипертрофированной концентрацией грамматической формы в микроконтексте и ее средней, нормативной концентрацией; 2) контраст между отдельными частями одной грамматической парадигмы250. На материале русского языка эти группы метафор иллюстрируются следующими текстами: (1-а) Сидит Славочка на заборике, А под ним на скамеечке Боренька. Боренька взял тетрадочку, Написал: «Дурачок ты, Славочка». Вынул Славочка карандашище, Написал в тетрадь: «Ты дурачище». Борище взял тетрадищу Да как треснет по лбу Славищу. Славище взял скамеищу Да как треснет Борищу в шеищу. Плачет Славочка под забориком. Под скамеечкой плачет Боренька. (О. Григорьев. Битва) – «В стихотворении явственно ощущается контраст между повышенной частотностью уменьшительных и увеличительных суффиксов в тексте по сравнению со средней частотностью»; (1-б) Потянул. Зевнул. Встал. Присел. Подпрыгнул. Отжался. Сходил. Умылся. Почистил. Сел. Позавтракал. Побри… Проснулся. Взглянул. Присвистнул. Вскочил. Заскочил. Плеснул. Схватил. Не тическая метафора", но надо во всяком случае четко отдавать себе отчет в морфологической природе этого приема» [там же]. 250 Вслед за Э. М. Береговской эти типы контраста выделяет Ю. Н. Власова. Она замечает, что троп, основанный на контрасте между гипертрофированной концентрацией грамматической формы в микроконтексте и ее средней, нормативной концентрацией, организован по принципу аккумуляции. Поэтому данный вид тропа Ю. Н. Власова называет аккумулятивным видом грамматической метафоры [Власова 2007: 19]. 359
прожевал. Обжегся. Набросил. Побежал. Влетел. (Б. Гуреев. Понедельник – день тяжелый) [Береговская 1998: 124]. (2-а) Да, я знаю, я вам не пара Я пришел из другой страны И мне нравится не гитара, А дикарский напев зурны (Н. Гумилев. Я и вы) – «Стилистический эффект достигается созданием оппозиции я – вы . При этом местоимения сохраняют некоторую неопределенность, расплывчатость контуров, что характерно для лирической поэзии вообще». (2-б) На пенечке кто сидит? Я сидит, скучает (Л. Лосев. Песня); Чем я, больной, так неприятен мне, так это тем, что он такой неряха (Л. Лосев. Местоимение) – «…Лев Лосев расшатывает, размывает контуры шифтеров, организуя таким образом комический эффект» [там же: 125]. (Под шифтером вслед за Р. Якобсоном понимается класс единиц, которые переключают высказывание на разные компоненты ситуации – на взаимоотношение между адресантом и адресатом, на пространственные и временные координаты сообщения [там же: 124].) С нашей точки зрения, в тексте (1-а) окказиональные единицы (даже если их признать формами одного слова) используются в их прямом, а не переносном значении. Их «гипертрофированная концентрация», как и сам факт столкновения в узком контексте слов с суффиксами субъективной оценки, имеющими противоположное значение – отклонение нормы нерегулярной встречаемости однородных единиц («принципа нерегулярности текстовой структуры»). Отклонение от нейтральной речевой нормы имеем и в тексте (1-б) с цепочкой «эллиптических предложений без подлежащего» [там же]. В (1-б) нет отклонений от употребления грамматических форм, следовательно, нет и грамматического тропа. Однако отклонение от языковой нормы есть: прием окказионального словообразования в (1-а). В (1-б) есть отклонение от двусоставной модели предложения; если эту модель признать нормой, то перед нами отклонение от нейтрального варианта синтаксической нормы. Не видим мы грамматического тропа и в тексте (2-а), где имеет место «семантическая опустошенность» местоимения Вы, обусловленная отсутствием указания на того адресата, к которому обращается автор. В стихотворении (2-б) грамматическая рассогласованность 360
(солецизм), основанная на отклонении от норм словоизменения (кроме замены я на он во втором двустишии, что может быть рассмотрено в качестве грамматического тропа). Ср.: На пенечке кто сидит? / Я сижу, скучаю; Чем я, больной, так неприятен себе, / так это тем, что я такой неряха.
2.5. Риторические отклонения от синтаксической нормы или ее нейтрального варианта К отклонениям от синтаксической нормы (к области метатаксиса по [Дюбуа и др. 1986: 66]) относят приемы, видоизменяющие структуру предложения. За «нейтральную структуру предложения» [Скребнев 1975: 109] (за «синтаксическую нулевую ступень» [Дюбуа и др. 1986: 66]) принимается минимально законченное предложение, то есть элементарная двусоставная (подлежащно-сказуемная) модель, характеризующаяся нормальным, обычным для русского языка порядком следования компонентов, их грамматической сочетаемостью (взаимной упорядоченностью, согласованностью) и исполняющая обычную (не переосмысленную) синтаксическую функцию. В число характеристик нормального синтаксиса предложения включают также и его линейность [там же: 136]. Что касается функций приемов, основанных на отклонении от синтаксической нормы или ее нейтрального варианта, то экспериментально доказано, что «…синтаксическое строение не предопределяет категорически характер стилистического эффекта. Синтаксис исследует строй предложения, отвлекаясь от конкретных лексических условий; между тем лексическое наполнение одной и той же синтаксической структуры способно кардинальным образом влиять на стилистический результат» [Скребнев 1975: 109].
361
Отклонения с операторами прибавления Отклонения с оператором повтора Развертывание и расширение модели нейтрального двусоставного предложения различного рода второстепенными членами не противоречит правилам грамматики. Под развертыванием структурной схемы понимают распространение членов высказывания, соответствующих позициям синтаксической модели, другими, структурно факультативными членами; под расширением – ситуацию, когда количество словоформ в высказывании перерастает количество имеющихся функционально-синтаксических позиций, то есть объединение словоформ в сочинительные ряды [Норман 1994: 176-179] (отсюда термин «фигуры развертывания»). Б. Ю. Норман пишет о том, что структура речевой единицы может быть сколь угодно сложной, но «…синтаксическая модель как языковая единица принципиально "двухэтажна": она образуется уровнем вершины (сказуемого) и уровнем подчиненных сказуемому позиций» [там же: 143]. Поэтому чрезмерные нагромождения, множественные цепочки подчинения и сочинения – скорее прием, чем норма [там же: 180]. Поскольку при этом внимание адресата отвлекается от «вершины» модели предложения и сосредоточивается на второстепенных членах, такого рода явления рассматриваются Ж. Дюбуа, Ф. Пир и другими авторами «Общей риторики» как отклонения от «нулевой ступени» синтаксической нормы. К отклонениям они относят не только добавление элементов к закрытым синтагмам, использование вводных предложений, но и конкатенáцию, эксплéцию (окружение синтагмы второстепенными с точки зрения смысла словами), перечисления и нагромождения (аккумуляцию), репризу глагола или существительного с последующим введением уточняющих их смысл определений, полисиндетон [Дюбуа и др. 1986: 137-142]. К отклонениям от нейтральной синтаксической нормы, для которой «достаточно однократного употребления слова», традиционно относят повтор как фигуру речи, состоящую в повторении звуков, слов, морфем, синонимов или синтаксических конструкций в условиях достаточной тесноты ряда [Арнольд 2002: 244]. Когда речь идет о таком повторе единиц, то исследователи в изученных нами работах не оговаривают, является это отклонением от языковой или речевой нормы. Все приемы, основанные на операторе повтора, могут иметь 362
место как в рамках одного предложения, так и в рамках сложного синтаксического целого и всего текста. Причем текст может структурно быть равен одному предложению-высказыванию и даже одному слову. Это как раз тот случай, когда одно и то же явление может рассматриваться и как отклонение от нейтрального варианта языковой нормы (в рамках внутримодельных модификаций предложения), и как отклонение от среднестатистических закономерностей построения нейтрального текста. Приемы повтора считаются хорошо изученными как в лингвистике, так и в литературоведении, однако при их описании неизбежно возникает все та же проблема терминологического характера, когда одно и то же явление по-разному терминируется либо, наоборот, под одним термином описываются различные приемы. Существование многочисленных синонимических наименований РП, очевидно, объясняется тем, что целый ряд терминов был заимствован риторикой из поэтики: рондо, эпистрофá, акромонограмма, кольцо и др. Существуют различные классификации повторов, например, выделяют повторы: 1) упорядоченные и неупорядоченные, 2) тождественные (повторение полнозначного слова в той же форме) и нетождественные (остальные повторы), 3) контактные и дистантные, 4) звуковые, морфемные, лексические и синтаксические (см., напр.: [Хазагеров 1984: 57-60; Хазагеров, Ширина 1999: 260; Москвин 2006а: 236-237]). Приемы, основанные на повторе (звуковом, морфемном, лексическом, синтаксическом), или «каркасные фигуры экспрессивного синтаксиса», как их называет Ю. Н. Власова [Синт. фигуры… 2007: 121], со времен античности классифицируются на основе занимаемой в речевой цепи позиции: а) дистантной (повторение начальной части двух и более смежных или совместно встречающихся речевых единиц – анафора, или единоначатие; конечной части – эпифора, или концовка251; срединной – симплока252; сочетание анафоры и 251
Синонимы эпифоры как повторения однотипных единиц в конце каждого отрезка речи – эпистрофа и конверсия в [Хазагеров, Ширина 1999: 237, 288; Филиппов, Романова 2002: 79], а также антистрофа, конверсия, концовка, единоконечие, единоокончание, единозаключение [Москвин 2006а: 370]. Иное понимание антистрофы, эпифоры в [там же], антистрофы в [Филиппов, Романова 2002: 82]. 363
эпифоры – анаэпифора253; идентичность начала и конца одной речевой единицы – киклос, или кольцо254); б) контактной255 (повторение конечной части речевой единицы в начале следующей за ней речевой единицы – анадиплозис (анадиплоз, анадиплосис)256; двухкратный 252
В этом значении его синонимом считают термин мезодиплозис [Москвин 2006а: 299]. Термин симплока используют также применительно к сочетанию анафоры и эпифоры, то есть как синоним анаэпифоры (см., напр., в [Хазагеров, Ширина 1999: 201; ЭСС 2005: 288; Клюев 1999: 243; Москвин 2006а: 362; Скребнев 1975: 144]). 253 Синонимы: эпанафора, эпанастрофа, койнотес [Хазагеров, Ширина 1999: 201], а также комплексия [Москвин 2006а: 362]. Иное понимание койнотеса как многократной эпанафоры в [там же: 133]. Ср. также: комплексия как синоним кольца в [Хазагеров, Ширина 1999: 237]. Лексическую анаэпифору именуют также окружением [Волков 2001: 316]. Анаэпифорой, анэпифорой называют также то, что у нас обозначено термином «кольцо» [Власова 2000: 126]. 254 Синонимы: инклюзия, кольцевой повтор, окружение, рамка, включение, рондо, охват, обрамление, комплексия и эпанадиплозис [Москвин 2006а: 133], эпанафора [Синт. фигуры… 2007: 119]. Термины «включение», «кольцо, «реддиция», «охват», «обрамление», «комплексия» используют и в более узком значении – применительно к лексическому повтору (слова, сочетания слов) в начале и в конце какого-либо отрезка речи [Хазагеров, Ширина 1999: 236]. Включение как повтор одного и того же слова в указанной позиции трактуется в [Ахманова 2004: 79; Филиппов, Романова 2002: 81]. Киклос (просаподосу, просаподосис) рассматривают также как тип кольца, сопровождаемый смысловым осложнением повторяемого компонента [Москвин 2006а: 132-133; Клюев 1999: 250]. Ср. иное понимание просаподосиса (прозаподозиса, прозопоэзиса): формулировка нескольких констатаций или альтернатив с последующей детализацией каждой из них [Хазагеров, Ширина 1999: 262], что является речевой тактикой. 255 Контактный повтор слова, словосочетания, предложения называют также «простым повтором» [Кузнец, Скребнев 1960: 73]. 256 В качестве синонимов анадиплозиса В. П. Москвин [Москвин 2006а: 238] приводит термины, которые у других исследователей используются только для повтора слова / выражения в конце одной и начале следующей единицы. Это эпанáлепсис [Ахманова 2004: 526], а также реприза [Волков 2001: 313], стык, возвращение, контактный повтор, цепной повтор, палилогия, редупликация, эпиплока (в одном из значений) [Хазагеров, Ширина 1999: 199]. Цепным повтором называют также ряд последовательных эпанафор (анадиплозисов) [Власова 2000: 126]. Иные понимания эпаналепсиса и/или палилогии в [Клюев 1999: 240; Филиппов, Романова 2002: 82], акро364
повтор речевой единицы – редупликация257, трехкратный и более – геминация258). Приемы позиционно-лексического повтора259, то есть приемы, основанные на повторе синтаксической позиции или комбинации синтаксических позиций с одним и тем же лексическим наполнением: лексическая анафора (1), лексическая эпифора (2), лексическая анаэпифора (3), лексическая симплока (4), лексическое кольцо (5) – приемы, основанные на дистантном повторе; лексический анадиплозис (6), редупликация (7), геминация (8) – повторы, основанные на контактном повторе. Повторяться могут как предикативные, так и непредикативные единицы. Напр.: 1) Но единственное, в чем можно сомневаться, это то, что он никогда не поддастся массовому гипнозу, никогда не станет тиражировать в своем творчестве музыкальные стереотипы, никогда не отзовется на стадные чувства… (КР. 27.03.1999); Не выдерживал нагрузок лед – начинал трескаться и крошиться; не выдерживали клюшки – ломались… (АиФ. 1999. № 6); 2) Кто там живет? Зайцы живут, лисы живут. И медведи живут (В. Астафьев. Последний поклон); – Ужас, смерть кругом. монограммы – в [Хазагеров, Ширина 1999: 194], эпанастрофы – в [там же: 287], репризы – в [Ахманова 2004: 327; Хазагеров 1984: 59; Москвин 2006а: 341]. 257 Ср. иное понимание редупликации в предыдущей сноске. Использование одного слова дважды или трижды подряд именуют усугублением [Филиппов, Романова 2002: 78]. 258 Геминацией называют также любой контактный повтор. Тогда удвоение рассматривают как вид геминации, а многократную геминацию именуют эпизевксисом [Москвин 2006а: 81, 329, 364]. Иное понимание эпизевксиса (субъюнкции) (повтор слова с эмфазой) в [Филиппов, Романова 2002: 78]. 259 Не каждый позиционно-лексический повтор образует РП (см. об этом [Cковородников 1984]). Комбинацию лексического повтора и синтаксического параллелизма именуют лексико-синтаксическим параллелизмом [Москвин 2006а: 145] или лексико-синтаксическим повтором [Скребнев 1975: 141]. Соответственно выделяют лексико-синтаксическую анафору, лексико-синтаксическую эпифору, лексико-синтаксическую анаэпифору [Кузнецова 2003: 130]. Хотя лексические анафора, эпифора, анаэпифора, как правило, приводят если не к полному, то к частичному синтаксическому параллелизму. 365
Красные – смерть. Свои – грабеж, смерть. Крестьяне – тоже смерть (В. Я. Зазубрин. Два мира); 3) Может быть, со временем наша власть без олигархии будет честнее (а может и нет). Может, без олигархов сократится разрыв между бедными и богатыми (а может и нет) (АиФ. 1999. № 47); Должен возникнуть большой русский проект. Если с этим проектом выступит Лужков – он станет президентом. Если с этим проектом выступит Зюганов – он станет президентом. Если с этим проектом выступит какой-нибудь из патриотических губернаторов, например, Кондратенко, – он станет президентом (СР. 13.10.1998); 4) Нынче пятнистую форму может купить любой. Мужики и пацаны в камуфляже ловят рыбу. Тетки в камуфляже копают картошку (АиФ на Енисее. 26 марта 1998 г.); Здоровье – это свобода на разных уровнях. На физическом – свобода от боли, благополучие. На эмоциональном – свобода от страстей, состояние невозмутимости и безмятежности. На ментальном – свобода от эгоизма, единение с Истиной и познание Бога (АиФ. 1999. № 1); 5) Зачем он встретил ее сегодня, зачем, зачем? (Э. Русаков. Встреча) – сочетание кольца и редупликации; Они не смогут сбивать самолеты, но и просто глядеть, как их дети и старики гибнут под бомбежками, они тоже не смогут (МК. 16-23.10.1999); 6) Где дым – там огонь! Где огонь – там люди. Где люди – там жизнь!.. (В. Астафьев. Последний поклон) – ср.: Где дым – там огонь, люди и жизнь; Старики ходят по кабинетам, чего-то просят и суют под нос чиновникам нелепые комсомольские путевки. Для них это – целая жизнь. Жизнь, которая, увы, заканчивается (КР. 19.11.1998); 7) Она не разденется, не поет. Уставится на меня. Смотрит и молчит. Смотрит и молчит (Н. Воронов. Не первая любовь); Мороз крепчал и крепчал, а снег все сыпал и сыпал, таял на одежде и холодной мокретью обдавал все тело (Н. И. Волокитин. Осень в мысах); 8) Приятно же прийти, и выпить кофе, и вытянуть ноги, и медленно, медленно, медленно расслабляться (В. Маканин. Отдушина); Но уже помимо нее, по своей воле другая какая-то скрипка взвивалась выше, выше, выше и замирающей болью, затиснутым в зубы стоном оборвалась в поднебесье, у той одинокой остроиглой звезды… (В. Астафьев. Последний поклон). 366
На синтаксическом повторе (повторе синтаксических форм) как полном или частичном тождестве строения синтаксических конструкций (синтаксическом параллелизме) построены, по мнению А. А. Кузнецовой, такие фигуры, как изоколон (фигура полного синтаксического параллелизма), синтаксическая анафора, синтаксическая эпифора, синтаксическая анаэпифора. Это те приемы, в которых синтаксический параллелизм является доминантным (обязательным, ведущим, основополагающим) принципом [Кузнецова 2003: 132] Напр.: Поставили чайник, откупорили вино, нарезали торт, съели часть, выпили вино (Л. Петрушевская. Темная судьба); Бабы напекли пирожков, мужики наварили браги, девки заплели ленты в косы. В общем, встречали Ваньку, как солдата с войны (АиФ. 2002. № 38)260 – изоколон; На мачте развевался белый флаг, пересеченный двумя голубыми диагональными полосами. На палубе стоял Петр Первый, я сразу узнал его по усам и треуголке (А. Аршакян. Ботик Петра) – синтаксическая анафора. На синтаксическом параллелизме основаны конструкции следующего типа: Жириновцы подозревают в продажности яблочников, яблочники – коммунистов, коммунисты – эндээровцев (КП. 21.11.1997). Или: Рыбаков волнует рыба, золотодобытчиков – россыпь, лесоповальщиков – лес (КР. 07.04.1998); Козе она выбирала из подполья самую мелкую картошку, себе – мелкую, а мне – с куриное яйцо (А. И. Солженицын. Матренин двор). Иногда в подобных конструкциях видят «зевгму» в таком понимании: «ряд сочиненных и параллельно соподчиненных предложений, организованных вокруг одного общего главного члена, реализованного только в одном из них, а в остальных подразумеваемого». В зависимости от того, в каком предложении реализуется общий член, различают гипозевгму (общий член – только в последнем предложении), мезозевгму (только в среднем) и протозевгму (только в первом) [Хазагеров, Ширина 1999: 226]. Однако в таких конструкциях, с нашей точки зрения, представлен лишь синтаксический параллелизм, а не эллипс члена предложения как прием (если восстановить пропущенный компонент во всех предложениях, конструкция окажется не нормативной, а еще более экспрессивной за счет повтора). К зевгме В. П. Москвин относит также синтаксические конструкции типа Летят журавли, гуси, 260
Данные примеры иллюстрируют т.н. внутрифразовый синтаксический параллелизм по [Корольков 1973: 80]. 367
лебеди (ср. Летят журавли, летят гуси, летят лебеди) [Москвин 2006а: 116]. Полагаем, что подобного рода конструкции также не являются отклонениями от нормы (если не принимать во внимание асиндетон) и, следовательно, РП. Они нормативны, поскольку их преобразование со вставкой пропущенного сказуемого приводит к лексико-синтаксической избыточности, а значит, к образованию приема (антиэллипсиса – термин А. П. Сковородникова [Сковородников 1981: 72]) в случае прагматической мотивированности отклонения. На повторении однородных синтаксических единиц (синтаксическом плеоназме) основан синантройсм261 – члены предложения, однородные синтаксически (и функционально), но не семантически (содержательно), напр.: Золото боится мази, мыла и «тети Аси» (КП. 18-25 окт. 2002 г.); Тендер на самые грязные региональные выборы выигран взрывом, погромом и поддержкой олигархов (КП. 30 сент. 2000 г.); И мы будем давить следующих нашей тоской, перестройкой, паникой, автомобилями, телефонами, магазинами, бумажными деньгами, злобой друг к другу… (СГ. 20.12.1997) – паралогичность здесь снимается функциональной однородностью перечислений. Семантический (смысловой повтор), приводящий к появлению факультативной синтаксической позиции, имеет место в следующих высказываниях: Навстречу шли крестьяне. Пешком (В. Я. Зазубрин. Два мира); Но так и не появился там. И вообще внезапно исчез. Исчез без следа (Хак. 11.07.1997). 261
При ином понимании синантройсм (синайтройсмос, силлепсис) – синонимы апокойну [Москвин 2006а: 296]. Существует также термин аккумуляция, который определяют либо как синоним синтаксического плеоназма [там же: 41], либо как тип синтаксического плеоназма, изображающий детали, как бы случайно объединенные между собой, в отличие от синантройсма, изображающего детали, беспорядочно связанные в одном представлении [Хазагеров, Ширина 1999: 259]. В последнем случае разграничение аккумуляции и синантройсма осуществляется на функциональном основании. Полагаем, что аккумуляцию можно определить как любой синтаксический плеоназм – нагромождение однородных членов предложения: однородных как семантически, так и синтаксически (1 тип) или однородных синтаксически, но не семантически (2 тип – синантройсм), в отличие от апокойну, в котором объединяются синтаксически неоднородные члены при одном общем для них компоненте. 368
Отклонения с операторами контаминации Риторические отклонения от синтаксической нормы, построенные на основе контаминации, как с точки зрения структуры, так и с точки зрения функциональных особенностей подробно описаны в работах И. В. Пекарской, где представлен также обзор работ, посвященных изучению контаминированных образований в грамматическом и стилистическом аспектах. Контаминация как принцип построения структуры осуществляется, по мнению исследователя, тремя способами: синкретизмом, аппликацией либо смешением. Отсюда синкретичные структуры (вслед за В. В. Бабайцевой) рассматриваются как конструкции, совмещающие в одной модели предложения дифференциальные признаки разных синтаксических конструкций; аппликативные структуры – «накладывающиеся» друг на друга конструкции («интерференция» двух и более структур); смешение – «соскальзывание» с одной структуры на другую [Пекарская 1999: 13]. Совмещение (контаминация) как принцип лежит в основе синтаксического анаколуфа и апокойну. Анаколуф – « нарушение грамматической согласованности членов предложения (или частей фразы), соединенных по смыслу вопреки грамматическим нормам» [там же: 117]. Выделяются два типа анаколуфов: 1) морфолого-синтаксический, связанный несоблюдением правил согласования в роде, числе и падеже262, 2) синтаксический анаколуф – контаминация разных синтаксических моделей в одну единицу на уровне предложения. К морфологическому анаколуфу И. В. Пекарская относит гендиадис, который она (вслед за В. И. Корольковым) определяет как «…уподобление окончания одного слова окончанию другого, то есть "незаконное" согласование», «конструкция с однородными грамматически, но не семантически членами» [Пекарская 2000б: 177]. Однако во многих приводимых ею далее примерах нет уподобления окончаний, напр.: И в пышнорунной / могиле бобра / Гуляете вы, или в / бабочек ткани искусной / Не знаете смерти и тлена [смертного тлена] (В. Хлебников); Тут снова шум и дискуссия поднялась вокруг ежика [шумная дискуссия] (М. Зощенко. Нервные люди). Поэтому определение этого приема 262
У термина анаколуф есть еще одно значение: «фигура отвлечения эпитета», пропуск определяемого слова: Какая красота! («красота» < «красота природы» < «красивая природа») [Москвин 2006а: 56]. 369
Т. Г. Хазагеровым и Л. С. Шириной более точно: «конструкция с двумя однородными членами (именами существительными), называющими одно сложное понятие, которое обычно выражается сочетанием с подчинительной связью » [Хазагеров, Ширина 1999: 216]. В то же время такими однородными членами могут быть не только существительные, но и другие члены предложения, о чем свидетельствуют примеры этого приема у В. П. Москвина: прохладно и приятно (вм. «приятная прохлада»), сижу и читаю (вм. «сижу читая») [Москвин 2006а: 81]. Еще один факт, на который нужно обратить внимание: трактовка некоторых случаев как замены сочинения подчинением не всегда оправдана. Так, если сочетание смерти и тлена в приведенном выше примере заменить на смертного тлена, искажается мысль поэта, для которого тлен наступает после смерти, это два разных явления. Или: Необходимо было, пережив потрясения, осмыслить весь тот опыт жизни и борьбы (З. Масленникова) (пример И. В. Пекарской). Сочетание жизни и борьбы нельзя заменить на жизненной борьбы, так как это приведет к искажению смысла: исчезает то, что для автора борьба – лишь часть жизни. Более того, мы не видим в подобных структурах принципа контаминации и нарушения грамматики. Морфолого-синтаксический анаколуф (в сочетании с инверсией) представлен в следующем тексте: Чувствую, как тонкий лучик солнечный бьется в узкой щелке между шторами. Я, по счастью, человек не конченный, лучше дружбы не водить с которыми! (В. Салимон. Похолодание). Морфолого-синтаксический анаколуф может быть построен на основе контаминации и эллипсиса одновременно, напр.: вышел в свой город где был кислород пусть немного еще мне поднятый подлый из вялой земли говорил: горячо лежать среди камня где камень тобой говорит я вышел в свой город которым немного болит (А. Петрушкин) 370
Перед нами пример так называемой «синтаксической "рассыпчатости" текста» (термин Б. Ю. Нормана [Норман 1994: 195]), построенного на основе контаминации предложений с одновременными пропусками их частей. Грамматическая несогласованность частей помогает передать чувства, эмоциональное состояние героя, испытавшего неразделенную любовь либо разлуку с любимой. Синтаксический анаколуф – «смещенная конструкция, где в одной синтаксической единице совмещаются две или более разнородные модели…» [Пекарская 1999: 67]. Синтаксический анаколуф, как отмечает И. В. Пекарская, может представлять собой явление синкретичного характера (свободная / связанная конструкция, простое / сложное предложение, контаминация по цели высказывания, контаминация по эмоциональной окраске), «смешанного» (контаминированный однородный ряд, отрицательное / положительное высказывание, анантаподотон) и аппликативного (парентеза, анаподотон и фигуры чужой речи). «Анаколуфные образования синкретичного характера, – пишет она, – с точки зрения принадлежности / непринадлежности грамматической норме можно определить как явление, находящееся на периферии нормы. Они не воспринимаются как ошибочные , как это происходит в случае анаколуфов-смешений , т.к. грамматическая норма в них не нарушена » [там же]. Тогда не понятно, почему образования такого типа (не нарушающие грамматическую норму) рассматриваются как анаколуф, в определении которого исследователь признак нарушения отражает («вопреки грамматической норме»). Очевидно, происходит отождествление нормы с понятием нейтральной ступени синтаксической нормы, а понятие антинормы (см. с. 70 указанной работы) приравнивается к понятию экспрессивной ступени синтаксической нормы. Поэтому воздействующий эффект нейтральных синкретичных образований, ставших экспрессивными в контексте (используемых в качестве речевого приема), И. В. Пекарская объясняет образностью, «картинностью» при характеристике того или иного явления [там же: 61]. Конструкции, которые И. В. Пекарская характеризует как «периферию нормы», можно рассматривать как отклонение от нейтрального варианта нормы, что объясняет их экспрессивный потенциал. Рассмотрим по одному примеру «синкретичных конструкций» из тех, которые приводит И. В. Пекарская.
371
1. Свободно-связанная конструкция: Не получая огненного пайка и работая до потери задних ног, означенные эфиопы находились в состоянии томном… (М. Булгаков. Багровый остров) – наложение трех фразеологизмов валиться с ног, работать до потери сознания и упасть без задних ног [там же: 25]. Полагаем, что здесь нет отклонения от синтаксической нормы, а вот отклонение от фразеологической нормы есть. 2. Контаминация простого/сложного предложения двух типов (может быть нормативной и ненормативной [там же: 14]). А. Предложения с предикативными единицами в функции членов предложения (в роли члена предложения выступает предикативное сочетание): Оно, конечно, городишка не чета Москве: и улицы травой заросли, и дома помельче… но зато воздух – хоть в бочках на экспорт гнать… (Л. Леонов. Русский лес) = «чудесный, чистый» – адъективная контаминация [там же: 41]. Такие структуры в конструктивном синтаксисе рассматриваются как регулярные реализации структурной схемы предложения с замещением позиции сказуемого фразеологическим сочетанием или предикативной единицей. Они могут рассматриваться как отклонение от нейтрального варианта нормы. Б. Двусоставные конструкции с придаточными предложениями во второй части (предложение начинается как простое, а заканчивается как сложное с предикативной придаточной частью): Совсем плохо – это когда появляется твой главный враг (В. Суворов. Аквариум) [там же: 42]. Наиболее частотными, по наблюдениям И. В. Пекарской, является союз «когда» в условно-временном значении, причем придаточные с этим союзом относятся к подлежащим, выражающим абстрактные понятия [там же]. Добавим, что подобного рода конструкции рассматриваются в риторике как прием, который называют «риторическим определением» [Яковлева 1995]. 3. Контаминация по цели высказывания: И поглядывала в небо, подсматривала за ним – какое оно? (С. Залыгин. Комиссия) – повествовательно-вопросительное предложение [Пекарская 1999: 32]. Нейтральный вариант нормы: И поглядывала в небо, подсматривала за ним, чтобы понять, какое оно (контаминация – результат усечения, пропуска компонента). 4. Контаминация по интонации (эмоциональной окраске): Магазин был как проклятый – уже сколько народу пострадало из-за него! (В. Распутин. Деньги для Марии) [там же: 40]. Нейтральный 372
вариант: Магазин был как проклятый: из-за него пострадало уже много народу. Конструкции (1-4) – это экспрессивные синтаксические конструкции как «…типизированные преобразования стилистически нейтральных структур – т.е. структур, входящих в синтаксическую систему литературного языка и имеющих закрепленное, обязательное для каждой из них грамматическое значение. Экспрессивные конструкции имеют то же самое грамматическое значение, что и их нейтральные эквиваленты, но отличаются от последних соответственно определенной экспрессивной направленностью» [Морфология… 1968: 238]. К анаколуфам смешения («соскальзывания») И. В. Пекарская относит контаминированный однородный ряд (включение предложения в ряд однородных членов, объединенных интонацией перечисления), отрицательно-положительное высказывание (предложение начинается как положительное, а заканчивается как отрицательное) и анантаподотон (прерванно-продолженное сложное предложение, в котором нарушена правильная синтаксическая последовательность: вторая часть сложного предложения, естественно предполагаемая первой, остается невысказанной, а предложение приобретает неожиданное окончание263) [там же: 52-54, 71]. Соглашаясь с тем, что такие конструкции нарушают синтаксическую норму, приведем лишь некоторые примеры: Исчезли зарплаты, пафос, чистота, боязнь наказаний, жуткая рожа однопартийности, комсомольские собрания, бескорыстие, девскромность, волосы на женских ногах и когда весь город в одной помаде (А. Матвеева. Остров Святой Елены); Ради нее [тяги к земле. – Г. К.] можно вынести и отсутствие воды, и трубу с маньяками, и нашествие комаров, и – ползком между грядками. И многое еще чего (КР. 21.07.1994) – контаминированный однородный ряд; Важно, что женщина – прекрасна. Что она умна и обаятельна, эффектна и глубока, тонка и… черт возьми, вот далась мне эта интеллигентность!.. (ВК. 07.10.1998) – анантаподатон. К анаколуфам, образуемым на основе наложения структур, И. В. Пекарская причисляет парентезу, анаподотон и фигуры чужой речи. Парентезой она называет вставную конструкцию, анаподото263
Поскольку окончание является неожиданным, анантаподотон трактуют также как «фигуру алогизма» [Москвин 2006а: 56]. 373
ном – вводную [там же: 71]. Обратим внимание лишь на то, что парентéза (парентезис, внесение) – это не любая вставная конструкция: это включение в предложение не соединенного с ним грамматически слова, словосочетания или другого предложения [Корольков 1973: 78; Ахманова 2004: 79; Кузнец, Скребнев 1960: 79 и др.], напр.: Лишь это может быть хотя бы относительным возмездием за те боль и страдания (а порой уносятся десятки жизней!), которые несет в себе разгулявшийся террор (Сиб. Календарь. 27.03.2001). Таким образом, в основе парентезы – оператор вставки. Вставку в одно предложение другого предложения, не зависимого по смыслу, как разновидность парентезы именуют паремболой [Горте 2007: 107]. На операторе контаминации строится также апокойну (силлепсис). Под этим термином описывают два явления: 1) синтаксическая конструкция с грамматически неоднородными членами (дополнениями по [Ахманова 2004: 52]) к одному управляющему слову, 2) конструкция, состоящая из стержневого управляющего слова и зависимых от него членов, неоднородных грамматически, а иногда и логически [ЭСС 2005: 61]264, или зевгматический анаколуф по [Смолина 2004б: 57], напр.: (1) Всюду люди хотят иметь красивый автомобиль. И чтобы в салоне было удобно (КК. 22.01.1998); (2) Пожелаем им добра. Блестящих уроков. Хороших учеников. И даже сегодня мечтать не только о зарплате (Учит. газета. 1 окт. 1996 г.); – Нет, – сказал я. – Хочу стать капитаном! Хочу, чтоб у меня был кортик. И белые штаны. И крейсер. И чтобы килевая качка, а потом бортовая… и кофе с лимоном! (Э. Русаков. Тетя Роза); Вася был большой, толстый и в бороде, и совершенно не в моем вкусе (А. Матвеева. Рыжее платье); Мама интересуется у сынишки: – Что бы ты хотел получить на день рождения? – Лошадку, пистолет и три дня не умываться! (Телесемь. 8-14.10.2007). Оператор нагромождения однородных синтаксических единиц (синтаксический плеоназм) для апокойну факультативен (см. выше пример 1). Если в составе конструкции имеются лексически неоднородные члены (примеры под номером 2), то это уже синкретичный
264
Иные значения термина см. в [Москвин 2006а: 67]). 374
прием, основанный также на алогизме (отклонении от логикоречевой нормы). Отклонения с операторами убавления К отклонениям от нейтральной нормы, основанным на убавлении (сокращении, редукции), относят: эллипсис, назывное (номинативное) предложение, асиндетон265 [Дюбуа и др. 1986: 130-136], а также апозиопезу [Скребнев 1975: 110-112; Мороховский и др. 1991: 138], просиопезу и зевгму [Хазагеров 1984: 63-64]. Асúндетон266 понимают как намеренное опущение союзов в синтаксических конструкциях сочинительного типа, предполагающих наличие в кодифицированном литературном языке соотносительных сочинительных конструкций с союзами, признаваемых за нейтральный вариант языковой нормы. Асиндетон как прием имеет место при сочинении перечислительных членов предложения, состоящих не менее чем из трех компонентов, или частей сложного предложения, имеющих добавочные экспрессивные признаки – по265
Большинство приемов этой группы («фигуры убавления») хорошо изучены на материале русского языка: об эллипсисе см., напр., [Сковородников 1978]; о прерванных, или структурно незавершенных высказываниях – [Артюшков 1981; Колокольцева 1984; Сковородников 1981]; о номинативном предложении – [Попов 1960]; об асиндетоне – [Веккессер 2007]. 266 В качестве синонимов асиндетона приводят термины диалелуменон (диалелименон), диссолюция, а также бессоюзие, брахилогия [Хазагеров, Ширина 1999: 212] и диализис [Москвин 2006а: 69]. Использование термина бессоюзие, несмотря на его семантическую прозрачность, неудачно, поскольку не всякая бессоюзная конструкция трактуется как прием / фигура. Нецелесообразно как синоним асиндетона употреблять также термин брахилогия, поскольку он используется в качестве родового для асиндетона и полисиндетона [Хазагеров, Ширина 1994: 214]. Как родовой для асиндетона и полисиндетона В. П. Москвин использует термин асервация, предложенный, как он отмечает, Квинтилианом [Москвин 2006а: 69]. Что касается термина диализис, то он используется также в совершенно ином значении: «…неспециально охарактеризованная фигура, основанная на построении аргументации, исходящей из ряда альтернатив, каждая из которых должна быть учтена » [Хазагеров, Ширина 1999: 213] – это скорее тактика, нежели прием в нашем понимании. 375
втор, параллелизм [Сковородников 2004в: 46; ЭСС 2005: 68]267. Напр.: …Лесок был до отказа заполнен людьми, смехом, музыкой (Б. Рахманин. Печаль моя светла). – Ср.: нейтральный вариант нормы: …людьми, светом и музыкой; Вот чем тешили себя спортсмены в среду: помидоры, морковь, редис, свиной пятачок, соленая рыба по-скандинавски, яйцо под майонезом, ягненок, антрекот, китайская овощная смесь, сыры, йогурты, яблочно-черничный торт, шоколадный мусс, фрукты (МК. 03-10.06.1999). – Ср.: …торт, шоколадный мусс и фрукты; Но ты входишь в село и узнаешь, что не живые – убитые приветствовали тебя издали (А. И. Солженицын. Крохотки). Ср.: не живые, а убитые приветствовали тебя. Эллипсис, или эллипс, как отклонение от нейтрального варианта нормы, заключается в стилистически значимом пропуске какого-либо члена (или части) предложения, который присутствует в синтаксическом окружении (в контексте) или восполняется за счет речевой ситуации; это «…факт выбора неполного, усеченного варианта синтаксической конструкции из парадигматического ряда (набора) функционально эквивалентных, но стилистически различающихся полных нераспространенных, неполных и избыточных по своему составу конструкций» [Скребнев 1975: 79]. Напр.: – Получил после Крыма две недели на отдых. Мою гвардейскую – в резерв Ставки, а меня – сюда (К. Симонов. Живые и мертвые) – стилизация под разговорную речь (в разговорной речи пропуск сказуемого не является отклонением от нормы); Но не было, наверное, ни одного телеканала, не сообщавшего о выборах депутатов Гос. думы Коржакова и Кобзона. Личности! (Хак. 22.10.1997) – контекстуальный эллипсис в актуальновыделительной функции. Опускаться может не только сказуемое (неполная реализация структурной схемы), но и второстепенные члены предложения (незамещение позиции обязательного второстепенного члена), напр.: Мама говорит, что времени прошло слишком мало. У меня записано 267
При более широком осмыслении этого понятия асиндетоном называют намеренное опущение не только сочинительного, но и подчинительного союза там, где он требуется по смыслу [Скребнев 1975: 112]. При более узком же осмыслении асиндетон – пропуск союзов только при однородных членах предложения [Хазагеров, Ширина 1999: 212; Филиппов, Романова 2002: 84]. 376
сколько – девять месяцев. Можно было зачать, выносить и разродиться. Девять долгих, бесконечных, тридцатидневных, кошмарных месяцев. Первый Новый год без. День рождения без. Все без. (А. Матвеева. Па-де-труа) – использование предлога без существительного; Говори, говори, убаюкай меня / этим мягким, гортанным и ровным; изменяй, как движенье сухого огня, / мои губы, глаза и надбровья (Д. Румянцев. Голос) – определения без существительного. Полагаем, что разновидностью эллипсиса является прием включения («эллиптические формы разговорного словоупотребления» [ЭСС 2005: 82]), напр.: На это большой ум у бригадира нужен. И блат с нормировщиками. Нормировщикам тоже нести надо (А. И. Солженицын. Один день Ивана Денисовича) – усечение существительного при управляемом глаголе; А в мэрии, наверное, утверждена уже новая программа по профилактике наркомании. С привлечением, проведением, реализацией, созданием, поиском… (Свой голос. 1998. № 2) – усечение дополнений, требуемых после существительных по смыслу. Примыкающим к эллипсису явлением считают апосиопéзу (апозиопезис, апосиопезис, апозиопезу, апозиопею; синонимы – иннуендо [Филиппов, Романова 2002: 101], удержание [Волков 2001: 322]) как умышленное недоговаривание (усечение, прерывание) начатого предложения (в речи – высказывания). Общепризнанно, что при апосиопезе, в отличие от эллипсиса, пропущенные компоненты не всегда восстанавливаются. Ср. (1) и (2): 1) Особой красотой невеста не блещет, но – деньги, господа, деньги… (СГ. 29.11.1997); Серпилин молчал. Молчал и думал : как далека от истины бывает поговорка «Яблочко от яблоньки…» (К. Симонов. Живые и мертвые); 2) Гремит за окнами война, / но птичек не пугает. / Она слегка похожа на… / Но сходство исчезает (А. Нечаев). В «Общей риторике» Ж. Дюбуа и др. незаконченность предложения терминологически обозначается как обрыв. Отмечается, что «…это скорее фигура содержания, чем выражения (несмотря на то что она изменяет и синтаксическую структуру предложения)», поэтому данную фигуру они рассматривают как разновидность металогизма [Дюбуа и др. 1986: 132]. При этом понятие металогизма, с на377
шей точки зрения, не является у них достаточно четко определенным (см. об этом далее). Разновидностью апосиопезы Ю. М. Скребнев признает употребление условных придаточных предложений в качестве самостоятельных в том случае, если они имплицируют очевидное следствие: Если бы я знал! [Скребнев 1973: 110-111]268. Иногда термин апосиопеза понимают расширенно: «прием, когда оратор делает вид, что хочет сказать о чем-то, но останавливается или делает намеки, предоставляя слушателям самим сообразить, в чем дело »: Если в нашей экономике не наступит серьезных перемен, то… гам…; …А меня вы, возможно, будете порицать, если я скажу, каким он занимается промыслом, шатаясь по городу. Впрочем, вы будете правы: к чему говорить то, что вы и сами знаете? (Ч. Диккенс) [Филиппов, Романова 2002: 101]. Как видим, структура предложения во втором примере не нарушена, следовательно, нет отклонения от синтаксической нормы. Исследователи неоправданно совмещают в рамках одного понятия представление о двух разных явлениях: умолчание как усечение предложения и умолчание как речевая тактика. Чтобы разграничивать эти явления терминологически, термин умолчание целесообразно использовать применительно к тактике, а не приему. Апосиопезой (умолчанием, удержанием, недосказом, апозиопеей) также называют обрыв не только конца высказывания, но и его начала. При таком понимании разновидностями апосиопезы признают просиопезу (пропуск начальной части высказывания) и мезиопею (пропуск срединной части высказывания) [Москвин 2006а: 330-331]. Рассмотрение апосиопезы и просиопезы как приемов, находящихся в родовидовых отношениях, противоречит сложившейся традиции, согласно которой эти приемы видовые (согипоним), противопоставленные друг другу (апосиопеза – усечение конца, просиопеза – усечение начала предложения). Что касается мезиопеи, то выделение ее как типа умолчания еще предстоит обосновать: Негодяй по фамилии Бэдд / В старых дев разрядил пистолет. / Горожане узнали, / Пулемет ему дали… / Ста268
Эмфатическое использование придаточного предложения как самостоятельной единицы именуют анаподатоном (Burton G. O. – по [Москвин 2006а: 56]), но в отечественной традиции за этим термином закрепилось иное значение (см. об этом ниже). 378
рых дев больше в городе нет [там же]. Данный пример подходит под умолчание в понимании этого термина Д. Э. Розенталем: «…оборот речи, заключающийся в том, что автор сознательно не до конца выражает мысль, предоставляя читателю (или слушателю) самому догадываться о невысказанном». Однако среди примеров, которыми исследователь иллюстрирует это явление, есть синтаксически незавершенные предложения, напр.: Нет, я хотел… быть может, вы… я думал, Что уж барону время умереть [Розенталь 1998: 364]. На необходимость разграничивать умолчание как лингвистически охарактеризованный способ (апосиопезу) и умолчание как лингвистически неохарактеризованное явление указывал Г. Г. Хазагеров в кандидатской диссертации «Функции стилистических фигур в газетных заголовках…» [Хазагеров 1984: 29]. Однако такое разграничение, как видим, до сих пор не проведено, хотя вполне очевидно, что незавершенность предложения, его обрыв и неполное выражение мыслей – явления разного порядка. …Наказать всех, кто не давал нам воли, дышать не давал (АиФ. 1999. № 15) – ср.: Надо наказать всех…; для тех, кому не помогают капли для носа (Жизнь. 2008. № 31) – ср.: Лекарство для тех… Отполыхало пламя над избой, отгомонило в ней гуляй-застолье… В живых остался дедушка слепой, – на ощупь, трезвым, выбрался на волю. Издалека, из центра-городка, приехала пожарная машина, и милицейский газик без гудка, и «скорая» никчемная дружина. Бродяга-ветер запахи унес к реке, где пахло влагой и рыбалкой. …А дедушка слепой, прочистив нос, ушел в поля, постукивая палкой (Г. Горбовский). В последнем примере многоточие не является показателем того, что структура предложения видоизменена. Перед союзом «а» оно показывает наличие определенных (причинно-следственных) отношений между последним предложением и предыдущим контекстом, осмысливая которые, мы понимаем трагизм ситуации, одиночество человека, оставшегося без помощи, брошенного всеми. Мысли, не 379
высказанные в тексте прямо, никак не связаны с отклонением от синтаксической нормы. Одним из способов сокращения (компрессии, стяжения структуры высказывания) Б. Ю. Норман считает «смещение», или «синтаксический перенос», – такое изменение в структуре высказывания, при котором слово занимает не свою позицию [Норман 1994: 183]. На смещении, по мнению Б. Ю. Нормана, основаны два приема: гипаллага и «стяжение (сокращение, компрессия) структуры высказывания». В качестве одного из примеров «стяжения» Б. Ю. Норман приводит такое высказывание: Поглядишь, как Антон Степаныч деликатесы разные выбирает и высшей маркой запивает, так вот и думается… (И. Шмелев. Человек из ресторана) – ср.: запивает вином высшей марки [там же: 185]269. Однако это высказывание, с нашей точки зрения, иллюстрирует использование приема метонимии: с современной точки зрения, перенос значения в метонимии возникает в результате сокращения словосочетания, приводящего к тому, что слово занимает несвойственную синтаксическую позицию (оператор убавления здесь – лишь промежуточная операция). Что касается гипаллаги, то этот прием является синкретичным (см. о нем далее). Существует также «отщепленный номинатив», который можно трактовать как отщепленный член предложения либо как номинативное предложение, присоединенное бессоюзной связью [Родин 2005: 11-12]. Будем считать, что отщепление в данном случае является результатом эллипсиса (пропуска), напр.: Мы, большая группа тогдатошних однокурсников, хоронили нашего вундеркинда, мальчика, который пришел рано и ушел раньше всех, загадка (Л. Петрушевская. Измененное время) – ср.: что было для нас загадкой / причина его смерти – загадка.
269
В. З. Санников явление подобного рода называет синтаксической компрессией. Однако под это понятие он подводит и то, что называют экспрессивным включением. Тем самым синтаксическая компрессия (прием, состоящий в том, что из слов, входящих в некоторое словосочетание, остается одно, вбирающее в себя значение всего словосочетания [Санников 1999: 111]) у этого исследователя понимается иначе, чем компрессия у Б. Ю. Нормана. 380
Отклонения с операторами переноса Понятие грамматического тропа связывают с переносным употреблением не только морфологических, но и синтаксических форм. На транспозиции (переосмыслении) форм, по мнению исследователей, основаны такие приемы, как риторический вопрос, риторическое обращение, риторическое восклицание, коррекция и литота [Хазагеров, Ширина 1999: 221]. Посмотрим, все ли эти приемы можно безоговорочно отнести к грамматическим тропам. При этом нужно иметь в виду, что в грамматическом тропе перенос значения осуществляется в рамках одной из парадигм. Риторический вопрос, или эротéма [там же: 264], традиционно определяется как утверждение или отрицание, выраженное в вопросительной форме. Тем самым вопросительно-риторические предложения не требуют ответа, так как ответ уже содержится в их значении. Таким образом, перенос значения синтаксической формы предложения осуществляется в рамках функциональносемантической категории модальности: противопоставления высказываний по их коммуникативной цели. По мнению И. В. Пекарской, риторический вопрос представляет собой контаминацию повествовательной и вопросительной структур. Его разновидностями (вслед за А. А. Калининым) она считает: 1) собственно риторический вопрос: И какой же русский не любит быстрой езды? (Н. В. Гоголь); 2) эмоциональный риторический вопрос: Какой светильник разума угас! Какое сердце биться перестало! (Н. А. Некрасов); 3) «ораторские вопросы» и вопросы автора, сопровождающиеся ответом самого говорящего: а) Не вы ль сперва так злобно гнали Его свободный, смелый дар… (М. Ю. Лермонтов), б) С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре… (М. Матусовский) [Пекарская 1999: 33]. Тем самым риторическое восклицание (пример 2) отнесено ею к риторическому вопросу, понимаемому расширенно270, в сравнении с его традиционным осмыс270
Риторический вопрос (не только утверждение в форме вопроса, но и любой вопрос, обращенный к неодушевленному объекту, животному или отсутствующему лицу), после которого идет ответ автора, именуют риторическим рассуждением, вопросно-ответным ходом, антипофорой, апокрисисом, гипофорой, дианойей, прокаталепсисом, вопросно-ответным комплексом [Москвин 2006а: 78, 275]. Хотя вопросно-ответный комплекс 381
лением. Однако нужно заметить, что вопрос автора, сопровождающийся ответом (случай 3б), не имеет отношения к переносному употреблению грамматической структуры: здесь нет совмещения в одной синтаксической конструкции разных модальностей. К случаям транспозиции синтаксических структур исследователи, помимо риторического вопроса, относят также несобственноотрицательные предложения – предложения, не содержащие грамматического отрицания, но имплицирующие отрицательное суждение: придаточное нереального сравнения, используемое в синтаксической изоляции (Как будто я это нарочно сделал!), ироническое повторение реплики собеседника с целью опровержения достоверности высказывания («Собираюсь поработать» – «Поработать!») [Скребнев 1975: 114]. Такого рода выражения эмфатического отрицания предложениями, в которых нет отрицательных слов, И. В. Арнольд называет «транспозицией синтаксических структур с ограниченными возможностями лексического и морфологического варьирования» [Арнольд 2002: 228]. Они описываются также под термином антифразис при его расширенном понимании как использование не только слова, но и словосочетания, предложения в значении, противоположном обычному. Ср. примеры антифразиса из [ЭСС 2005: 51]: Вот так удружил! Хорошенькое дело! и Этого еще не хватало! Ничего не скажешь, молодец! (отрицание в форме утверждения).
может содержать не только риторический вопрос (даже при его расширенном понимании), но и делиберативный вопрос (вопрос, адресованный самому себе) [Ахманова 2004: 84; Хазагеров, Ширина 1999: 222]. В качестве синонима гипофоры (ведение оратором разговора вслух с самим собой или воображаемым собеседником) выступает термин субъекция в «Риторике для Геренния» [Кузнецова, Стрельникова 1976: 88]. Иное понимание гипофоры см. в [Филиппов, Романова 2002: 92].
382
Риторическое обращение271 характеризуется тем, что «…форма обращения используется не столько для называния адресата (второго лица), сколько для привлечения внимания к этому адресату со стороны других лиц (читателей, слушателей) и его оценочной характеристики» [ЭСС 2005: 279]. Следовательно, перед нами отклонение от основной функции обращения – называть лицо, к которому обращена речь. Перенос осуществляется в рамках категории субъективной модальности, которая является «факультативным признаком высказывания» [БЭС 1998: 303]. Риторическое восклицание представляет собой отклонение от нейтрального варианта нормы при условии, что за норму принимается синтаксическая структура, не имеющая в своем составе какихлибо формальных показателей эмоциональности (см. об этом [ЭСС 2005: 277]272). Именно наличие формальных показателей эмоциональности приводит к переосмыслению содержания предложения и его компонентов. В результате риторическое восклицание часто совмещается с риторическим вопросом: Огонь развести в такую зиму каждому хочется. А чем его разведешь, когда кругом ни дерева, а все, что можно было сжечь – и плетни, и заборы, и кизяк, и солому – давно сожгли! (К. Симонов. Живые и мертвые). Случаи наложения риторического восклицания и риторического вопроса описывает И. В. Арнольд, когда говорит о том, что восклицательные предложения могут быть построены как вопросительные, напр.: Не стыдно тебе!; Ну, не замечательная ли поездка!; Что ты, черт возьми, делаешь! [Арнольд 2002: 228]. Не стыдно тебе! и Ну, не замечательная ли поездка! – вопросительные конструк271
В одних источниках в качестве синонима риторического обращения приводятся термины аверсия, апострофа, просфонезис [Москвин 2006а: 275], в других – апострофа, как и аверсия, – термин, служащий для обозначения типа риторического обращения – обращение к олицетворяемому предмету или заведомо отсутствующему лицу (умершим, павшим героям) [Хазагеров, Ширина 1999: 192], в третьих – апострофа (апостроф) – синоним риторического обращения, а аверсия – его разновидность [ЭСС 2005: 10, 64]. Обращение к читателю как разновидность риторического обращения именуют антиметатезой [Москвин 2006а: 62]. 272 Ср. иное понимание нейтральной синтаксической нормы: «…Такие устойчивые правила построения предложений, которые обеспечивают непосредственное сообщение мысли без привнесения в него дополнительного эмоционально-экспрессивного содержания» [Кузнец, Скребнев 1960: 65]. 383
ции с отрицанием в значении побуждения (ср.: Стыдись!) или утверждения (ср.: Замечательная поездка!); Что ты, черт возьми, делаешь! – вопросительная конструкция в значении побуждения (не делай этого, прекрати это делать). Слова что, не стыдно, не замечательная, использующиеся не в своем прямом значении, придают переносный характер всей синтаксической конструкции, следовательно, перед нами лексико-грамматический троп. Но само по себе риторическое восклицание грамматическим тропом не является, как и его разновидности, о которых пишет В. П. Москвин: 1) оптация – восклицание, выражающее горячее желание [Москвин 2006а: 213]; 2) аганактезис – восклицание, выражающее возмущение [там же: 40] и 3) катаплока (риторическое восклицание в виде парентезы) [там же: 128]273. Литота (в одном из значений) – «…риторическое отрицание, состоящее в употреблении антонима с отрицанием в целях утверждения и подчеркивания противоположного значения»: Фердыщенко Петр Петрович, бригадир. При не весьма обширном уме был косноязычен (Салтыков-Щедрин) (не весьма обширном = очень ограниченном) [Хазагеров, Ширина 1999: 240]. В переносном значении (утверждение в форме отрицания) здесь используется словоформа, а не вся синтаксическая конструкция (как в случае с риторическим вопросом), поэтому литота может быть отнесена к грамматическому тропу, точнее к его разновидности – тропу морфологическому. Литота, как и риторический вопрос, близка к антифразису и морфологическим тропам в том смысле, что в ее основе также транспозиция по контрасту. По функции же она близка к эвфемизму: В. П. Москвин, рассматривая подобные конструкции как разновидность мейозиса (иминуции), пишет о том, что Б. А. Ларин именовал их «эвфемизмами через отрицание», а Ю. Д. Апресян – полуэвфемизмами» [Москвин 2006а: 159]. К транспозиции синтаксических структур также относят: 1) побудительное или повествовательное предложение в роли вопросительного (Назовите вашу фамилию и Вы должны назвать вашу фамилию вместо Как ваша фамилия?), где мы грамматического тро273
Отметим, что названные типы риторического восклицания выделяются без соблюдения единого основания: оптация и аганактезис – с точки зрения выражаемых эмоций, катаплока же – факт взаимодействия риторического восклицания и парентезы. 384
па не усматриваем, так как во всех случаях одно значение – значение побуждения; 2) несобственно-побудительные предложения (выражающие требование совершить определенное действие без участия императивного глагола): Сюда! Скорее, вашу бумажку! [Скребнев 1975: 115], которые, с нашей точки зрения, являются эллиптическими предложениями (ср.: Бегите сюда! Скорее давайте вашу бумажку!). В стилистике и риторике отклонение от обычного расположения составляющих предложение слов или словосочетаний, в результате которого «переставленный» элемент оказывается выделенным и таким образом привлекает к себе внимание, приобретает стилистическую значимость, традиционно называют инверсией, стилистической инверсией, обратным (инверсным, инвертированным, риторическим) порядком слов. В грамматике, когда говорят о порядке слов в словосочетании, то разграничивают «актуализацию словосочетания» под влиянием определенной коммуникативной установки и инверсию в неактуализированном словосочетании. В неактуализированном словосочетании соблюдаются нормы объективного порядка слов, а само словосочетание входит в один компонент актуального членения, то есть в тему (известное) или рему (новое): Прончатов длинно улыбнулся. При «актуализации словосочетания» его части оказываются в разных компонентах актуального членения: Улыбнулся Прончатов длинно; Дышал он тяжело. При инверсии в неактуализированном словосочетании нормы объективного порядка слов нарушаются, но словосочетание по-прежнему целиком входит в один компонент актуального членения (или в тему, или в рему): Набежала туча черная [Современный… 1999: 674]. В риторике и стилистике об инверсии как приеме говорят в случае актуализации инвертированного компонента, то есть постановки компонента предложения в необычную для него позицию с целью эмфатического выделения, напр.: С самого рождения она была окружена чудесными игрушками, и игра, самостоятельная, не требующая иных участников, была главным содержанием ее жизни (Л. Улицкая. Сонечка) – ср.: …и самостоятельная игра, не требующая иных участников, была главным содержанием ее жизни. Поскольку об инверсии уже многое написано, проиллюстрируем лишь редкие случаи: Есть желание работать «не престижа 385
ради, а Отечества для!» (Хак. 19.09.1997) – предлоги располагаются после существительного (ср.: …не ради престижа, а для Отечества); Хоть и хочется думать: не та это молодежь, что читает «МегаХаус», а та, что читать-то не умеет вовсе, – сделать вид, что нас вся эта мерзость не касается, что бунты пьяных ничтожеств – не наш формат, уже не получится. Коснулось потому что (МК. 15-22.04.1999) – подчинительный союз в конце придаточной части (ср.: …потому что коснулось); Имея это в тылу, ни Китай, ни Европа в Россию не полезут. Пока (Предприниматель. 1999. № 21) – союз в конце предложения. Нет порядка в терминологическом наименовании типов инверсии. Так, в одних источниках видами инверсии считают анастрофу (перестановка смежных слов [Клюев 1999: 252]) и гипербат (инверсия связанных по смыслу слов, их дистанционное разделение) [Москвин 2006а: 120, 83], в других же источниках термины гипербат (гипербатон) [Античные теории… 1996: 239], анастрофа [Ахманова 2004: 47] используются в качестве синонима инверсии. У Ж. Дюбуа и др. гипербатон – фигура, которая «выносит за рамки предложения одну из его фиксированных составляющих»: Прекрасно утро во всеоружии, и море (Сен-Джон Перс) [Дюбуа и др. 1986: 154]. Такое же понимание гипербатона в [Клюев 1999: 255]274. Думаем, что к приемам, продуцируемым на основе оператора смещения, можно отнести явление синтаксического переноса (переноса части фразы из одной строки в другую), которое некоторые исследователи рассматривают в кругу амфиболии, наряду с двусмысленным построением синтаксической конструкции, что, на наш взгляд, нецелесообразно (см. [Пекарская 2000б: 180]), поскольку двусмысленность не обязательно связана с синтаксическим переносом. «Синтаксический перенос (СП), – пишет В. С. Баевский, – возникает при одновременном соблюдении двух условий: когда 1) отсутствует синтаксическая пауза в конце стиха и 2) имеется синтаксическая пауза в середине стиха. Иначе можно сказать: когда синтаксическая пауза с конца стиха переносится на середину данного или 274
Иное понимание гипербатона как парцелляции в [Филиппов, Романова 2002: 116], анастрофы как родового наименования для всех приемов, основанных на перестановке [Хазагеров, Ширина 1999: 200]. 386
последующего стиха». Разновидностями синтаксического переноса является режé, контррежé и режé-контррежé [Баевский 2001: 7], напр.: Пришла весна. Но ничего не изменила ровным счетом. Все так же Фауст дружит с чертом. Лишь только каплет на чело с ветвей. Но внешняя капель не веселит меня нисколько: тоску изгоя и осколка не заглушит апрельский хмель. Дней канитель. Я посреди пути стою: мне ровно сорок. А впереди – дремучий морок. И бомба тикает в груди. (Э. Крылова) – режé подчеркнуто, режé-контррежé – в первых двух строках в третьем четверостишии. Замерзшие руки. Река, у которой Невыговариваемо названье. (Е. Пестерева. Пшеха) – контррежé (выделено). Перенесенная синтаксическая пауза расчленяет фразу, и в этом отношении прием синтаксического переноса сближается с парцелляцией. И. В. Романова [Романова 2007: 133] заметила, что в ряде случаев можно механически заменить синтаксический перенос на парцелляцию. Прием синтаксического переноса известен в риторике под термином анжамбеман, или анжамбман (несоответствие между ритмическим и семантико-синтаксическим членением речи) [Хазагеров, Ширина 1999: 201] и синафия (перенесение части фразы или слова из одной стихотворной строки на следующую) [Москвин 2006а: 299]. Отклонения с оператором расчленения На расчленении единой синтаксической структуры предложения, при котором она воплощается не в одной, а в нескольких интонационно-смысловых речевых единицах (фразах), основана парцел387
ляция, напр.: Деньги должны работать. На нас (АиФ. 2002. № 41); Васильев был одним из них. И у него по ночам болело сердце. И ему снились фронтовые сны. С окопами и атаками. С победами и отступлениями. С гибелью (Э. Нетесова. Обреченные); Иду с дырявою сумой. Свободный! Радостный! Живой! (КП. 20.09.2002); Гуляй, студент! Если сессию сдал (КР. 24.01.1998). Расчленение является оператором приема прерваннопродолженной конструкции неконтаминированного типа (продолжается начатое и прерванное предложение). Конструкция (иногда осложняемая повтором) прерывается, как правило, для того, чтобы акцентировать внимание на неожиданном явлении, предмете, обозначенном во второй части (что является нарушением смысловой предсказуемости в линейном развертывании речи), напр.: Отечественные предприниматели рвутся в Африку. И попадают в… капкан (КП. 16.08.1994); Зарплата… туалетной бумагой (Хак. 05.07.1997); За деньгами, продуктами, медикаментами, одеждой идут люди в… редакцию республиканской газеты «Правда Бурятии» (Рос. газета. 20.02.1993). На расчленении основаны также сегментированные синтаксические конструкции – бинарно расчлененное предложение (сложное или простое), в котором первая часть обозначает важное для говорящего (пишущего) понятие, а вторая часть – базовая – содержит какое-либо высказывание по поводу понятия, обозначенного в сегменте. Поэтому во второй части имеется коррелят – заместитель сегмента [ЭСС 2005: 283], напр.: У меня по отношению к Елиному государству есть это право – понести кару, и этого права я не уступлю (Е. Замятин. Мы). Разновидностью сегментированных синтаксических конструкций считают «предложения с именительным темы» (или «именительным представления») – конструкции, в которых сегмент выражен именем существительным в именительном падеже [там же], напр.: Армейское хозяйство в канун наступления… Как представить себе, что это такое? И с чем это сравнить, не на войне, а гденибудь в мирной обстановке? (К. Симонов. Живые и мертвые). Как прием (который, хотя и определяется как отклонение от языковой нормы, является, скорее, графическим РП) характеризуется дробление на небольшие абзацы ССЦ или высказывания / предложения в [Корольков 1972: 31; Родин 2005: 12]. Приведем пример этого приема, совмещенного с парцелляцией: 388
Удастся ли нынче это казачеству? Ощутить прежнее, некогда такое надежное братское тепло и взлететь. Над почти погубленной своею землей. Чтобы спасти ее (Г. Немченко. Возвращение наших). Отклонения с несколькими операторами Отклонением с несколькими операторами считаем избыточное употребление в составе предложения местоимения третьего лица после или перед наименованием предмета, к которому оно относится, то есть пролепсу (пролепсис)275. Этот прием основан, с одной стороны, на грамматическом плеоназме, с другой – на расчленении предложения на две части, нарушении его линейной последовательности. Если местоимение стоит после существительного, то перед нами особый тип плеонастической сегментированной конструкции (а), именуемый также синтаксической тавтологией [Кузнец, Скребнев 1960: 76] и рассматриваемый исследователями как тип сегментированной конструкции; если же местоимение предшествует существительному – то особый тип антиципации, реализуемой в рамках одного предложения (б). а) Москва – она такая. Золотоглавая (СГ. 16.01.1999). Если личное местоимение в именительном падеже выделяет предшествующее ему существительное как главный предмет мысли, то такой тип приема называют именительным словесным, именительным лекторским [Хазагеров, Ширина 1999: 228; Ахманова 2004: 172], напр.: Ольга… Она, словно цветок, распустившийся внезапно над окопом… (Э. Нетесова. Обреченные) – ср.: Ольга, словно цветок...; Мой Пушкин. Он совсем другой. Изящный. Ироничный (Хак. 01.04.1998) – ср.: Мой Пушкин совсем другой… б) Вот она, краткая формула. Вернуть человека в общество как главное действующее лицо (СГ. 16.11.1989) – пример из [ЭСС 2005: 294]. Пролепсис является здесь антиципирующим компонентом по отношению к антиципируемому «вернуть человека в общест275
Так понимается пролепса в [Скребнев 1973: 112-113]. Иногда это явление описывают под термином «анаколуф» [Волков 2001: 321]. Иное понимание пролепсиса в [Москвин 2006а: 247; Хазагеров, Ширина 1999: 262]. 389
во…». Или аналогичный пример: Вот оно – определение моего счастья. На меня сошла благодать! (А. Афанасьев. Комариное лето). Если личное местоимение предшествует названию того предмета, к которому оно относится (как в последнем примере), то это явление (по сути, разновидность приема) называют иллеизмом [Хазагеров, Ширина 1999: 228; Романова, Филиппов 2006: 258], катафорой [Филиппов, Романова 2002: 125], синтаксической тавтологией [Кузнец, Скребнев 1960: 76], напр.: А ведь у нас столько в городе, крае состоятельных людей, разъезжающих по Канарам, имеющих по нескольку легковых машин. Боже, как же они очерствели душой, эти богачи! (КР. 02.04.1999). Приемом, образуемым при помощи нескольких операторов276, является хиазм – «…трансформационная синтаксическая фигура, в которой даны как трансформ, так и исходная форма, а трансформация включает от одной до трех операций: 1) перестановка элементов исходной формы по принципу зеркальной симметрии (обратный параллелизм); 2) двойной лексический повтор с обменом синтаксическими функциями; 3) изменение значения полисемантического слова или замена одного из слов исходной формы его омонимом» [Береговская 2004: 26-27]277. При этом исходной формой, трансформом может быть как словосочетание, так и предложение («хиазмы-
276
Не случайно среди языковедов нет единой точки зрения на родовую принадлежность этого приема: одни рассматривают хиазм как тип синтаксического параллелизма (напр., [Корольков 1973: 80]), другие – как тип антитезы. 277 В этой работе представлен тщательный (структурный, функциональный) анализ хиазма на материале четырех языков (русского, английского, французского и немецкого). Симметричное повторение одних и тех же слов, но с изменением их синтаксических функций и связей с непосредственным окружением образует антиметаболу [Ахманова 2004: 49], или хиазм второго типа в его определении Э. М. Береговской. В хиазме второго типа трансформ и его исходная форма, как правило, противопоставляются друг другу (что грамматически может выражаться при помощи союзов «а», «но»), что дает основание исследователям (в частности, [Клюев 1999: 201; Москвин 2006а: 62]) рассматривать антиметаболу как разновидность антитезы. Синонимы хиазма и антиметаболы: метабола, антиметатеза, антиметалепсис [Филиппов, Романова 2002: 125], коммутация [Хазагеров, Ширина 1999: 204]. 390
словосочетания» и «хиазмы-предложения» по [Глухов 1995: 59]). Напр.: 1) А дыма-то я не вижу. Не вижу я дыма (В. Миронов. Один день из темноты)278 – оператор повтора (лексического и синтаксического) в обратном порядке, т.е. в сочетании с инверсией; Что при Тутанхамоне, что при демократии. Власть и деньги. Деньги и власть (КП. 31.01.1998); Финансы и политика, политика и финансы – страшная кутерьма бумаг заваливала рабочий стол Екатерины (В. Пикуль. Фаворит); 2) Нет стилистики без языкознания, но и нет языкознания без стилистики (О. Г. Ревзина. Пролегомены к теории стилистики); Замкнутая вода. Замкнутый лес. Озеро в небо смотрит, небо – в озеро (А. И. Солженицын. Крохотки); Поэзия без фигур стала как бы недостойна называться поэзией, фигуры вне поэзии как бы перестали существовать (Е. В. Клюев. Риторика); …Все равно лучше уж безопасная опасность, чем опасная безопасность (П. С. Таранов. Приемы влияния на людей); Не персоны управляют законами, но законы управляют персонами (АиФ. 2007. № 3); 3) Пишу Вам довольно часто и нудно, а вот на Ваших страницах не появляюсь. Тут могут быть два объяснения. Либо до Вас не доходят мои письма, либо мои письма до Вас не доходят (СГ. 25.09.1999) – доходить как «достигнуть чего-н.» и доходить в значении «проникнуть в сознание, вызвать отклик». Таким образом, хиазм первого типа (простой хиазм) основан на синтаксическом параллелизме и инверсии (перестановке), хиазм второго типа («семантически осложненный хиазм», по Э. М. Береговской) – лексическом повторе, синтаксическом повторе (параллелизме) и инверсии, хиазм третьего типа («хиастический каламбур» – по Э. М. Береговской) дополняется изменением значения слова и является фактом наложения двух приемов – хиазма и плоки как разно-
278
Повторение слов в предложении в обратном порядке – эпанодос в понимании Е. В. Клюева [Клюев 1999: 246]. Иное осмысление термина «эпанодос»: «фигура возвращения к теме после долгой вставки» (синоним: антанаклаза) [Филиппов, Романова 2002: 126]. Другими словами, эпанодосом эти исследователи называют то, что другие терминируют как анантоподотон. 391
видности антанаклазы (если под ней понимать использование одного и того же многозначного слова в разных лексических значениях). Хиазм в последнее время нередко используется в научной речи в сильных позициях текста (является заглавием статьи, параграфа, главы, доклада и т.п.), напр.: Грамматикализация лексем и лексикализация грамматических форм (Вяч. Вс. Иванов. Лингвистика третьего тысячелетия) – название главы; Виртуальная реальность или реальная виртуальность (В. В. Красных) – название работы, помещенной в хрестоматии «Актуальные проблемы современной лингвистики» (М., 2006); След культуры в языке, или след языка в культуре (В. Г. Костомаров, Н. Д. Бурвикова) – название статьи; Поэзия орфографии и орфография поэзии (Н. В. Перцов) – название доклада на конференции «Лингвистика и поэтика в начале III тысячелетия» (МГУ. 24-28 марта 2007 г.). Хиазм В. П. Москвиным определяется как повтор с перестановкой не только лексических единиц и членов предложения, но и повтор звуков – звуковой хиазм: схема смеха (В. Маяковский) [Москвин 2006а: 342]. Как и в простом хиазме, здесь два оператора – повтор и перестановка, но отклонения от собственно языковой нормы нет. Подобный пример: …жрущая и ржущая России краса... (В. Маяковский. Приказ № 2 армии искусств); Сколько их… / Вещих и вящих, врущих и рвущих… (В. Высоцкий). Период («гибридная фигура» по [Хазагеров, Ширина 1999: 252]) основан на синтаксическом параллелизме и совмещении интонационно противопоставленных частей: «…семантико-структурное единство, образованное простым или сложным предложением, а также сложным синтаксическим целым, которые разделяются на две интонационно противопоставленные части – протазис (повышение, восходящее движение тона), построенный обычно из нескольких параллельных синтаксических конструкций, и аподозис (понижение, нисходящее движение тона), отделяемые друг от друга длительной (явно выраженной) паузой» [ЭСС 2005: 223], напр.: И все, что у него было за душой, все нажитое опытом и воспитанное жизнью, все приобретенное в строю, в академиях и в боях за тридцать лет службы, все пережитое и перетерпленное, все самое хорошее и сильное, что было в нем, включая его веру в людей, – все это без остатка он вкладывал сейчас в подготовку операции (К. Симонов. Живые и мертвые) – период, первая часть которого состоит из перечислительного ряда с анафорическим повтором; 392
Е с л и б ы к а ж д ы й из команды на этом кораблике осознал, что впереди смертельный риф и в столкновении с ним бесследно исчезнет, рассыплется в ничто прекрасная его плоть, состоящая из лесов, рек, океанов, дождей, закатов, зелени травы, красивейших городов, памятников, соборов, машин, книг, полотен, живописцев, все то, что создано гениями человеческой мысли и человеческими руками, е с л и б ы к а ж д ы й хоть на минуту задумался о скоротечном веке Земли, люди не расшатывали бы свой корабль с борта на борт, не пробивали бы дыры в его днище дьявольскими силами расщепленной природы, не полосовали бы ножами злобы и ненависти с одержимостью самоубийц надутые паруса, забрызгивая их собственной кровью (Ю. Бондарев. Звезда и земля). – Период, в составе которого используются анафора и амплифицированный однородный ряд. Синкретичным приемом является анапóдотон, или анапóдатон, – вставная конструкция большой протяженности, расчленяющая структуру предложения. [ЭСС 2005: 39]. Ее отличительной чертой является повторение элемента, предшествующего вставке, что дает основание исследователям считать такой повтор отличительной особенностью анаподотона и выделять разные его типы: анаподотон с точным повторением предшествовавших вставке слов или групп слов и «семантический анаподотон», в котором смысл первой части повторяется после вставки другими словами [Шевцова 1999: 105], напр.: О д н а ж д ы… Было это уже после того, как детдом наконец-то определили в постоянное помещение – отдали старое здание Четвертой школы, на окраине города, за Волчьим логом, где вроде бы и полагалось быть детдому. О д н а ж д ы к дому с лихим разворотом подкатила оленья упряжка (В. Астафьев. Кража); С т а л о б ы т ь, все в мире подавлено, и сам Андрей, нормальнейший человек, без отклонений (иначе откуда обвинительные речи в адрес всяческих отклонений, откуда это стремление бичевать и поносить и вся эта гамма чувств – от смеха и презрения до ошеломленности обманутой души и грусти и печали), – с т а л о б ы т ь, Андрей, мужчина, каких мало, вечно ходил как бы отравленный своей репутацией, когда молва опережает его появление и девушки млеют, не в силах сопротивляться уготованной им на 393
ближайшую неделю судьбе, ибо больше недели Андрей всего этого не выносит и с нетерпением рвет (Л. Петрушевская. Смотровая площадка). Синкретичным РП является эпанод, когда «слова, употребленные рядом, вслед за этим используются еще раз, но разъединяются третьим словом», напр.: Никогда к ним не пойду, никогда больше к ним не пойду – «эпáнод "разъединяющий"» по [Корольков 1973: 80] – повтор со вставкой.
2.6. Риторические отклонения от норм правописания Стилистически значимое отклонение от графического стандарта и/или орфографической нормы называют графоном [КРР 2003: 145]. К графону относят также разные шрифтовые выделения, разрядку, написание прописной вместо строчной, введение в основной текст инородных знаков, фигурное расположение текста на плоскости и другие необычные написания слов. Его разновидности описывают под разными терминами. Так, графическое выделение в слове такой его части, которая представляет собой самостоятельное слово с собственным значением, называют приемом «матрешки» [Крутт 2006: 78], напр.: СМАКсимовым (ЛГ, 23-29 апр. 2008 г.) (в тексте статьи говорится о том, что передачу «Ночной полет» ведет Андрей Максимов, а эфир предоставили Андрею Макаревичу). Изменения графической (но не звуковой) формы слова именуют метаграфами [Дюбуа и др. 1986: 96] и графическими окказионализмами, капитализацией (см. об этом [Иванова 2007: 192]). Учитывая то, что нормы орфографические, пунктуационные, графические можно отнести к языковым нормам лишь с определенными оговорками и что прагматически мотивированные отклонения от норм правописания более или менее хорошо описаны в современной лингвистике (см., напр., [Дзякович 1994; Ванников 1972; Чепурных 1988 и др.]), ограничимся лишь иллюстрациями действий различных операторов в этой сфере отклонений.
394
Отклонения с операторами прибавления Отклонения от графического стандарта, орфографической и пунктуационной норм строятся на различных операторах прибавления. Это может быть: 1) совмещение элементов разных знаковых систем: «ЭПИЦЕNTP» (название кинотеатра в г. Красноярске); Лазареву не smashно! Певец получил серьезную травму из-за юбки Анастасии Гребенкиной (Жизнь за всю неделю. 2006. № 8) – графический макаронизм по [Москвин 2006а: 90]; 2) повтор знака: «Линолеум-м-м-м-м!» (название магазина в г. Красноярске на ул. Партизана Железняка); 3) ненормативная постановка (вставка) пунктуационного знака, например, между подлежащим и сказуемым, которая, наряду с повтором, представлена в следующем примере: Верит народ, ведь сам ГЕНЕРАЛ!!! об этом рассказывает… (Завтра. Апрель 1998 г.); 4) «стяжение» двух слов в одно, сопровождающееся графическим выделением одного из них, напр.: Вам надоела простуДА? (КП. 20.09.2002) – ср.: Вам надоела простуда. Да? Частотно совмещение графона с окказиональным словообразованием: «НепоКОБЕЛИмых нет, или сифилису все возрасты покорны? (Хак. 24.07.1998) – графон совмещается с трансформацией прецедентного текста (ср.: любви все возрасты покорны). Отклонения с операторами убавления Отступлением от пунктуационных норм является сокращение знаков препинания как прием [Дюбуа и др. 1986: 135], или так называемая «нулевая пунктуация» [Петрунина 2003: 250]: я тебе расскажу про движение незримой волны мне поведал о том человек с головой в серебре свет лишь пена ее мысль лишь брызги ее этот мир есть движение огромной незримой волны кто-то вспомнит о боге плывущем в стеклянной воде кто-то вспомнит трилистник растущий в ладонях его но они ни при чем есть сигнал есть прием 395
важно только настроить себя на движение незримой волны твое тело услышит движение незримой волны твое сердце подхватит биение пульса ее и разбудит ладонь в медных струнах огонь твои пальцы вплетутся в движение незримой волны (Д. Кадочников). На этом операторе может быть основано отклонение и от орфографической нормы, напр.: Адрлн (надпись на рекламном щите с изображением автомобиля) – пропуск гласных (ср.: адреналин). Отклонения с операторами переноса Перенос буквы на следующую строку, напр.: майор в отставке Камаль вернулся вокруг февраль дождь падает перед домом на залитый бензином асфаль т (Ф. Сваровский. Новый арабский фильм). Смещение букв как отклонение от графического написания слова наблюдаем, например, в названии рассказа в детской рубрике: Безумные колесики (СГ. 30.10.2002). Отклонения с операторами замещения Разновидностью графона является использование прописных букв вместо строчных или, наоборот, строчных вместо прописных, напр.: ПОМНИТЕ первомайскую деМОНСТРацию «голубых» профсоюзов? (Красноярская газета. 25.06.2002). Возможна замена цифры или буквы пунктуационным знаком: Виктор Аполлонович Тураев. Родился 21 мая 195. года в Абакане (Р. Солнцев. Диалоги с Платоновой); Граф!ка (надпись на рекламном щите на ул. Дубенского в Красноярске). Употребление знака препинания середины предложения в позиции конца предложения именуют антипарцелляцией [Дзякович 396
1994: 13]. В качестве примера приведем отрывок из рассказа В. Набокова «Подлец»: В стаканах легкий пар млел над поверхностью чая; жирный шоколадный эклер, раздавленный ложкой, выпускал свое кремовое нутро; Таня, положив голые локти на стол и упирая подбородок в скрещенные пальцы, смотрела вверх на то, как плывет дымок ее папиросы, и Берг ей доказывал, что надо остричь волосы, что Венера Милосская стриженая, и Антон Петрович жарко и обстоятельно возражал, а Таня только пожимала плечом, ударом ногтя стряхивая пепел. Отклонение от орфографической нормы с целью привлечения внимания наблюдаем в таком заглавии статьи: Правитильство решило баротца с ашипками (КП. 28.03.2002). Отклонения с операторами расчленения Расчленение графического облика слова осуществляется с помощью пробела или дефиса, напр.: А четыре месяца назад Иван вспомнил о той аварии в с ё (МК. 18.02.1999); Что бы было, если бы эпизоды сериала крутились вокруг любовного треугольника ВикаМаксим-Жанна? Ску-ко-та! (Телевизор. 2005. № 19). *** Обобщая сказанное о риторических отклонениях языковой нормы, можно сделать вывод об изоморфизме операторов, организующих РП в том смысле, что эти операторы «работают» на реализацию самого разного типа отклонений (см. таблицу 5). Существование синкретичных приемов, основанных на двух и более операторах, свидетельствует о динамичности системы РП и является аргументом в пользу гипотезы о ее полевой организации, что еще предстоит исследователям обосновать279.
279
Полевый характер отдельных групп РП, организованных одним принципом, обосновывается в работах [Пекарская 1999; Пекарская 2000в; Кузнецова 2007; Лопаткина 2001]. 397
Таблица 3
Прагматически мотивированные отклонения от собственно языковой нормы или ее нейтрального варианта280 Тип отклонения
Оператор Расчленение
Синтагматический Парадигматический
Расчленение ФЕ
Перестановка
Метатеза
Перестановка компонентов ФЕ
Смещение
Акцентологическое смещение
Семантический перенос
Прибавление
Усечение
Аферезис, апокопа
Пропуск
Синкопа
Растяжение (удлинение) Совмещение однотипных или одинаковых единиц (повтор) Совмещение
Совмещение разных единиц, или контаминация (в широком смысле)
Вставка Наложение
Сращение (соединение) 280
В таблице не отражены синкретичные приемы.
Словообразовательные отклонения
Морфологические отклонения
Сегментация и псевдочленение слова
Замена компонента (-ов) ФЕ
Синтаксические отклонения
Парцелляция, сегментированные конструкции, пролепсис Замена нормативной формы на ненормативную по аналогии
Анаграмма, верлан
Инверсия Синтаксический перенос
Лексические тропы
Конверсия Убавление
Лексикофразеологические отклонения
Скандирование, сдвиг (в узком понимании), слоговая парцелляция Антистекон, интонационное замещение
Замещение
Перенос
Фонетические отклонения (орфоэпические, акцентологические, интонационные)
Использование ФЕ в прямом значении Эмфаза (в понимании М. Л. Гаспарова), усечение ФЕ Сокращение состава ФЕ
Морфологическая метафора и ее типы Обратное словообразование, слова-акронимы, метабазис Сведение слова к начальной букве (звуку)
Риторические вопрос, восклицание, обращение; литота Апосиопеза, просиопеза
Прием синкопического словообразования
Эллипсис, асиндетон
Прием редупликативного словообразования
Анафора, эпифора и другие «каркасные фигуры экспрессивного синтаксиса» Парентеза
Диастола
Протеза, эпентеза, парагога, анаптиксис, эписиналефа Синереза
Расширение состава ФЕ
Диакопа
Наложение ция) ФЕ
Телескопические слова
(контамина-
Голофразис
Анаколуф и его разновидности, апокойну
3. Риторические приемы, основанные на отклонении от речевой нормы или ее нейтрального варианта Нормы литературного языка (в широком осмыслении понятия «язык») включают в себя не только собственно языковые нормы (нормы структуры языковой единицы), но и речевые нормы как нормы структуры текста и нормы речевой деятельности (употребления языка). В рамках речевой нормы (как текстовой, так и речедеятельностной) можно выделить следующие типы норм: норма нерегулярной встречаемости однородных (в каком-либо отношении) языковых единиц, или «принцип нерегулярности текстовой структуры» (по Ю. М. Скребневу); логико-речевая норма; информационно-речевая норма; функционально-стилистическая и жанровая нормы; ситуативная норма; этико-речевая норма; эстетико-речевая норма. Кроме этих норм, можно говорить (и говорят) о повествовательной норме. Осознать существование названных норм помогают разного рода отклонения, некоторым из которых И. В. Труфанова дает терминологические наименования: нарушение максимы истинности ради убеждения или развлечения слушающего она обозначает термином фаллаксия, максимы количества информации – антимодусия; максимы релевантности – нимиусия; максимы манеры – антигенусия, максимы такта – ингенуусия, максимы великодушия – антибеневоленсия, максимы одобрения – антилаудисия, максимы скромности – антимодестия, максимы согласия – антиконсенсусия, максимы симпатии – антипатия, принципа Поллианы – маестития, принципа интереса – антиратио [Труфанова 2004]. Проблема системности риторической терминологии – тема для отдельного научного исследования. Не ставя перед собой задачи решения этой проблемы, покажем лишь, что отклонения от речевых норм происходят на основе тех же операциональных моделей, что и отклонения от собственно языковых норм. Другими словами, технология отклонения от этих норм однотипна.
399
3.1. Риторические отклонения от «общего принципа нерегулярности текстовой структуры» Частично приемы, построенные на отклонении от среднестатистической нормы упорядоченности текста, описаны Ю. М. Скребневым. Он выделяет особую группу фигур – «фигуры совмещения», основанные на взаимоотношении семантических единиц (значений или предметных отнесенностей), образующих текст: на тождестве (сравнение, синонимы-заменители), на неравенстве (синонимыуточнители, климакс и антиклимакс, каламбур, зевгма) и на противоположности (оксюморон, антитеза). Им оговаривается условность включения в эту группу сравнения и синонимического варьирования (синонимов-заменителей), которые «не могут считаться относительными стилистическими фигурами» [Скребнев 1973: 156]. Идея о совмещении единиц, нарушающем принцип нерегулярности текстовой структуры, кажется плодотворной. Отклонения с операторами прибавления На операторе растяжения (удлинения) основан в общем-то нетерминированный прием, заключающийся в многочисленном «нанизывании» простых предложений в составе сложного. Существуют рассказы, состоящие целиком из одного такого предложения, что рассматривается как «художественный прием, нарушение обычного порядка вещей» [Кронгауз 2001: 256]. Например, рассказ В. Пелевина «Водонапорная башня» целиком состоит из одного предложения, занимающего девять страниц печатного текста и отображающего своего рода беспрерывный поток сознания. РП могут продуцироваться при помощи оператора совмещения тождественных элементов (одинаковых / сходных) и оператора совмещения нетождественных элементов (контраста, гипонимии, градуальности и соподчинения).
400
Отклонения с операторами совмещения на основе тождества или сходства (повтора; аттракции на основе омонимии и паронимии) В узком контексте целенаправленно могут совмещаться единицы, тождественные (одинаковые) или сходные в каком-либо отношении: по значению (синонимы), по звучанию (паронимы, омонимы), по наличию в структуре сходных или одинаковых компонентов. Это совмещение осуществляется, как правило, при помощи повтора. Приемы, основанные на операторе звукового повтора281, понимаются более или менее однообразно. Это аллитерация (повтор однородных согласных звуков)282 и ассонанс (повтор однородных 281
Разумеется, что звуки повторяются в составе определенным образом подобранных слов. Такой подбор и расстановка слов, при которых повторение и чередование образующих слова звуков придают тексту звучание, вызывают те или иные представления и эмоции, называют словесной инструментовкой [Горшков 1996: 141]. Термин «звуковые повторы» в значении «повторение сочетания звуков» используют иногда как разновидность словесной инструментовки, наряду с аллитерацией, ассонансом и звукописью [там же: 142-143], что считаем нецелесообразным, поскольку родовой термин в таком случае оказывается одновременно и видовым. Что касается звукописи, то этот термин (и понятие) обозначает прием на функциональной основе. Поэтому в его дефиниции не отображаются характерные для него операторы, напр.: звукопись – «…прием такого звукового построения фраз, стихотворных строк, которое соответствовало бы воспроизводимой сцене, картине, выражаемому настроению» [там же: 143]. Считаем, что ономатопéйя, или звукоподражание (имитация при помощи звуков речи тех или иных звуковых явлений), – прием, также выделяемый на функциональной основе. Структурный критерий здесь один – повтор звуков. Под ономатопейей понимают также звукоподражательные слова, образование слов, условно воспроизводящих звуки природы, человека и т.д. (см., напр., [Розенталь, Теленкова 2001: 276]); отклонением от нормы они будут только в случае их окказионального характера. 282 В риторике используется термин пароэмион, или паромойон, который является многозначным: 1) сквозная консонантная анафора, когда каждое слово начинается в предложении одним и тем же звуком (гомеопроферон [Москвин 2006а: 87]), что может рассматриваться как разновидность аллитерации; 2) разновидность сравнения, «…действительного при определенных условиях, обстоятельствах» [Хазагеров, Ширина 1999: 251]). 401
гласных звуков), которые по расположению подразделяются на повторы анафорические, эпифорические, кольцевые и т.д. (см. об этом, напр., [Чернавина 2007: 13-14]): – Зябнут птицы, Зябнут звери. Замерзают в норах звери, Залезают в дупла, в гнезда. В синем небе звезды мерзнут, Затухают на заре – Ух, морозно в январе. (В. Суслов) – аллитерация как прием звукописи; Первая проза маминых сказок, Первая проба поэтов печальных, Пенное пение свадебных масок, Племя походное, пламя печатное. Перешивать себе платья пернатые, Пряжу и пряжки скупать у евреев, В парной упряжке позор свой упрятывать, Позднюю позу – на памятник мерить. После – пожить хоть недолго порядочно, Правду поведать потомкам пугливым. Прах прорастет – и останутся ландыши, И ППС, как посмертный постскриптум. (Е. Пестерева. «П») – анафорическая аллитерация. На звуковом повторе основана рифма, которая является нормой для стихотворной речи, но в прозаическом тексте выступает как РП, напр.: Я любую вражью харю, если надо, отпиарю (КП. 0411.10.2002); Мастер-ас, – все, что ни делается им, «на глаз», ломается и разваливается через час, – злопыхтят советчикидоброхоты; не соглашается с ними заказчица: какая разница, – говорит, – если не хмур он, а – весельчак-балагур и поет под гитару так, что дух захватывает, не только слух; да и в перечне работ и услуг среди прочих одна, хоть и не значится подпись, но подразумевается – на зависть лучших подруг (В. Нешумов. Места. Неканонические строфы); – Подфартило! – восторженно поддакнул Борька Клин-голова и обвел лукавым хмельным взглядом ребят. – Купили, нашел – едва ушел, хотел деньги достать, да не могли догнать!.. 402
(В. Астафьев. Кража); Сто лет назад была растрата? За что ж сейчас грядет расплата! (заголовок // КП. 04.12.2001). Оператор морфемного повтора (повтора одинаковых или близкозвучных морфем) лежит в основе построения гомеологии – столкновения в узком контексте однокоренных или одноструктурных слов (набор слов одной грамматической категории с однотипными морфемами). По сути гомеология – это прием «текстового словообразования» (термин Е. А. Земской [Земская 1992: 179]). Слова могут быть с одинаковыми / однотипными (1) окончаниями, (2) суффиксами, суффиксами и окончаниями, (4) приставками283. Напр.: 1) Этой звезде уже поклонились управители земель и губерний, борцы, певцы, ловцы, продавцы (Завтра. 2000. № 1);284 2) А они, хоть и малышата, но не глупышата, чуют, что мы караулим (С. Пестунов. Сватова деревня); Ее роль в течение жизни много раз менялась – она была восторженной поклонницей, наперсницей, соперницей и даже покровительницей в разные периоды их слоистой, как геологический разрез, жизни (Л. Улицкая. Гуля); 3) Топот рос и тех тринадцать сгреб, забил, зашиб, затыркал (В. Маяковский. Хорошо!); 283
В обозначении типов гомеологии нет терминологического единства. Так, термин гомеотелевтóн, или гомеотелевт, используют применительно к набору слов с одинаковыми окончаниями [Ахманова 2004: 375; Хазагеров, Ширина 1999: 220], суффиксами и окончаниями [Москвин 2006а: 88], суффиксами и/или окончаниями [Толстоус 2007: 157; Береговская 2004: 161; Каверина 2000: 15]. Набор слов с одинаковыми окончаниями именуют также гомеоптотоном [Москвин 2006а: 87] и равноконечностью [Ахманова 2004: 375]. Размещение в узком контексте слов с одинаковыми суффиксами называют экспрессивным согласованием, или гомеоэоптоном [Хазагеров, Ширина 1999: 220]. В то же время термин «гомеоэоптон» используют и для обозначения корневого повтора [там же: 220]. Использование в высказывании двух однокорневых слов называют еще антитетической анноминацией и деривацией [Филиппов, Романова 2002: 96]. 284 Тождество окончаний однородных членов терминируется и как омойтéлевтон [Корольков 1973: 79]. 403
Нина забегала по кухне, закурила, заплакала, за-за-за… (А. Матвеева. Па-де-труа); Никто никому никогда не открыл, что ступени, / ведущие вверх, неизменно ведут в никуда (Г. Чернобровкин). В словообразовании в таких случаях говорят о «приеме нагнетания изоструктурных производных» [Земская 1992: 169]. В рамках гомеологии рассматривают также повтор корня (корневой повтор [Москвин 2006а: 88]). Считаем, что корневой повтор – оператор построения различных приемов. Например, столкновение в узком контексте однокоренных слов, одно из которых мотивирует значение другого, может использоваться с целью актуализации внутренней формы слова (восстановления исторически реального его происхождения)285: Анатолий Ластовка, хозяин женского «царства», считает себя мужчиной озабоченным. В хорошем смысле, т.е. искренне проникшимся заботой о женщинах (АиФ. 2002. № 38). Нередко приемы, основанные на разных повторах, взаимодействуют в рамках одного текста, напр.: З н а т ь б ы, Зачем Залилась спозаранку В замерших зарослях Крошка-зарянка? Знать бы, Зачем, Заглядевшись в зенит, Звонко и весело Зяблик Звенит? Знать бы, Зачем Зашуршала Змея? 285
Актуализацию внутренней формы слова, его первоначального смысла называют буквализацией [Филиппов, Романова 2002: 96] или «приемом обновления значения слова» [Горшков 1996: 148], а также «оживлением внутренней формы слова». 404
Знать бы, Зачем Зеленеет Змея? З н а т ь б ы… (В. Лунин) – гомеопроферон (выделен жирно), лексическая анафора (подчеркнута) и лексическое кольцо (разрядкой). Повтор слова или сочетаний слов может осуществляться как без изменения их форм (тождественный повтор по Г. Г. Хазагерову), так и с изменением формы или значения (в том числе в обозначенных выше позициях – анафорической, эпифорической и т.д.). Использование одного и того же слова в разных значениях называют антанаклассой286 (антанаклазой, антанакласисом) [ЭСС 2005: 43; Хазагеров, Ширина 1999: 202]. Выделяют две ее разновидности – диафору (повторение слова в разных, но не контрастирующих значениях) и плоку287 (употребление слова в контрастных, контекстуально противопоставленных значениях) [Хазагеров, Ширина 1999: 224, 260]. Однако на практике не всегда четко можно определить, какие значения контрастные, а какие нет. Например, в высказывании 286
К антанаклассе, помимо диафоры и плоки, относят использование в речи слов-омонимов [Пекарская 2000а: 156]. Совершенно иное понимание антанаклазы как «возвращения с разделением» – «соединение понятий, которые развертываются в параллельных конструкциях» в [Волков 2001: 324]. Варианты (31 наименование) разных обозначений антанаклазы и полиптота приводит Ю. Н. Пугачева в [Синт. фигуры… 2007: 215]. 287 Иное понимание плоки как повтора слов в разных значениях (антанаклаза) или формах (полиптот) в [Москвин 2006а: 236]. Однако дефиниция антанаклазы во втором значении – «повтор синонимичных либо многозначных единиц в разных значениях» (приведены синонимы: антиметастаза, дистинкция, отличение, плока, различение, традукция) – противоречит приведенному выше определению плоки [там же: 60-61]. Синонимическое использование терминов «антанаклаза» и «диафора» как повторения слова в одном высказывании в разных значениях, подчас противоположных, в [Филиппов, Романова 2002: 95]. Для обозначения повторения полисемантичного слова всякий раз в новом значении в риторике используется также термин «дистинкция» [Гусарова 2000: 27], а для наименования повтора одной и той же знаменательной части речи в разных грамматических формах – «лексический неточный повтор» [Корольков 1973: 78]. 405
война есть война такое определение затруднительно, но главное, что этого и не нужно делать, поскольку смысл данной конструкции не складывается полностью из значения входящих в нее слов. Именно за такими конструкциями тавтологической предикации мы и предлагаем закрепить термин «диафора». Поэтому диафору целесообразно рассматривать не как тип антанаклазы, а как самостоятельный прием. В одной из наших публикаций мы вслед за Г. П. Грайсом определили диафору как отклонение от постулата количества (принципа информативности), что, конечно, неверно288: наоборот, конструкции типа война есть война помогают сэкономить речевые усилия, сжато, емко выразить нужную мысль. Т. Г. Хазагеров и Л. С. Ширина пишут, что «диафора может называть индивидуального представителя целого класса предметов и явлений, а затем весь этот класс; одного, а затем другого представителя, подчеркивая их различия» [Хазагеров, Ширина 1999: 224]. Однако функция этого приема не сводится только к подчеркиванию различий, что убедительно доказывают приведенные ниже примеры и анализ «тавтологичных» построений, осуществленный Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелевым, которые заметили, что смысл подобных конструкций «…не составляется из элементов понятийного значения…» [Булыгина, Шмелев 1997: 443]. Так, А. Д. Шмелев пишет, что «высказывание Закон есть Закон указывает на необходимость исполнения закона, несмотря на его суровость; Приказ есть приказ означает, что приказ надо выполнять, хотя бы он был жестоким, трудновыполнимым или сопряженным с риском для исполнителя» [там же: 507]. Конструкция Х есть Х, по мнению А. Д. Шмелева, значит, прежде всего, ‘Все Х-ы одинаковы’, а Х – это Х означает нечто вроде ‘Х – это не Y’ [Шмелев 2002: 199]. По мнению Е. В. Падучевой, «…конструкция «Х есть Х» не может быть описана на чисто семантическом уровне: ее толкование обращено не к смыслу слова Х, а к связанной с ним импликатуре, которая целиком на совести говорящего и, в принципе, может быть для любого Х каждый раз своей». Эти конструкции «…сродни метафоре – в обоих случаях понимание основано на инференциях, с помощью которых слушающий должен разгадать туманный смысл говорящего» [Падуче288
Это справедливо по отношению к любым прагматически оправданным повторам, поскольку такая избыточность конструкций связана с выражением дополнительной информации экспрессивного характера, о чем писал А. П. Сковородников [Сковородников 1984: 72]. 406
ва 2004: 199]. Нельзя не согласиться с тем, что импликатура может быть представлена в контексте, напр.: Но ничего не поделаешь – слово есть слово. Владик старался д е р ж а т ь с в о е с л о в о и поступать честно (М. Дружинина. Дело чести); Люди есть люди. С е г о д н я с е м е й н ы е о б с т о я т е л ь с т в а у н ег о, а з а в т р а и у т е б я с а м о г о м о г у т б ы т ь… (К. Симонов. Живые и мертвые). Ю. Д. Апресян называет высказывания рассматриваемого типа «псевдотавтологическими». Их интерпретация, считает он, возможна и через обращение к коннотациям опорного существительного, т.е. при помощи анализа устойчивых признаков выражаемого лексемой понятия, воплощающих принятую в данном языковом коллективе оценку соответствующего предмета или факта действительности. В биноминативной конструкции, по Ю. Д. Апресяну, первая позиция актуализирует собственно лексическое значение слова, а последняя – его коннотации. Поскольку у войны есть коннотации зла, бесчеловечности, аморальности, опустошения, то «высказывание Война есть война, – пишет исследователь, – уместно в любой ситуации, когда говорящий пытается объяснить слушающему, почему наблюдаемое положение вещей отклоняется от нормы добра, человечности, морали, порядка» [Апресян 1995: 167]. Эти конструкции четко структурированы, они строятся по следующим схемам: 1) А есть А: «Обычные будни, – говорит он сегодня без сожаления и раскаяния. – Это была служба. А служба есть служба, как водка есть водка» (Труд. 17.10.1998); Год был очень тяжелым, многие недоедали, и, конечно, эту пшеницу мы не только сеяли, но при случае жарили на лопатах, парили в кружках и с удовольствием ели. Пшеница есть пшеница (С. Пестунов. Сватова деревня); Но подъем есть подъем! Раз всем вставать, значит всем вставать (В. Астафьев. Кража); – Прекратите свои глупые шуточки. Бизнес есть бизнес. А брак есть брак. И глумиться над святыми вещами я не позволю…(Э. Русаков. Круиз); 2) А он (она, они) (и) есть А: От толя – какое укрывище? Бумага – она бумага и есть (Солженицын А. И. Один день Ивана Денисовича); Бык он и есть бык, что с него взять – жвачное (Хак. 01.01.1997); «Ну, что с нее возьмешь? Девчонка, она и есть девчонка!» – почему-то смущенно сказал сам себе Толя… (В. Астафьев. Кража); 407
3) А – это А: Пятнадцать лет человеку, а для папы с мамой все ребенок, и никогда это не кончится, если не заявить раз и навсегда: сам. Сам с усам. Я – это я, это мне принадлежит, в конце концов мне за себя в жизни ответ держать, а не вам (Распутин В. Век живи – век учись); 4) А как А: Что касается храбрости, то Птицын был не храбрее и не трусливее других, человек как человек (К. Симонов. Живые и мертвые); 5) А (она, она, они) всегда / везде А: Женщина всегда женщина, даже если она и наделена от Бога ясным и насмешливым умом (В. Гроссман) – пример А. Д. Шмелева; Мельницы – они везде мельницы. Шаровые, молотковые, кольцевые (Завтра. 1999. № 12). Таким образом, перед нами особый синкретичный тип РП (оставим за ним термин «диафора»), имеющий определенную структурную схему построения и сближающийся с фразеологизмами289 и метафорой. Повторение в узком контексте многозначного слова в разных значениях традиционно называют полисемическим каламбуром290, напр.: Сейчас в стране и Красноярском крае, являющемся ее уменьшенной моделью, остро стоят вопросы: кого посадить, за что и на сколько. Но весна остается весной даже у нас и взывает о природой поставленных проблемах: сколько посадить, каким образом и на какие шиши (МК. 15-22.04.1999) – посадить как «помещать куда-н. на длительное время» и как «закапывать корнями в землю или сеять для выращивания»; Любовь не проходит, это мы проходим мимо нее… (Э. Русаков. Золотые купола) – проходить как «исчезать» и как «двигаться, преодолевать какое-н. пространство»; Страшно жить. А жить хочу – страшно (А. Казанцев) – страшно как «чувство страха» и как «очень» (разг.). К приемам, основанным на повторе слова в разных грамматических формах, относится полиптóт (полиптотон, многопадежие) – употребление одного и того же существительного (шире – имени) в разных падежах [Хазагеров, Ширина 1999: 224, 261], напр.: А тебе – хлеба двести грамм лишних в вечер. Двести грамм жизнью правят. На двести граммах Беломорканал построен (А. И. Солженицын. 289
Этот прием сближается с фразеологизмами и на функциональной основе. См. об этом [Водоватова 2007: 122-123]. 290 То есть то, что называют антанáклазисом в узком значении («обыгрыванием» полисемии) [Корольков 1973: 80]. 408
Один день Ивана Денисовича); Реки рождаются в блаженной, вечной тишине. Рождение не терпит суеты, рождению нужен покой (В. Астафьев. Затеси). Что касается эпимоны291, то под ней мы понимаем неупорядоченный повтор, напр.: Сидит он в трамвае и вдруг видит, перед ним этакая барышня вырисовывается. Такая ничего себе барышня, аккуратненькая. В зимнем пальто. И стоит эта самая барышня в зимнем своем пальто перед Володькой и за ремешок держится, чтоб пассажиры ее не опрокинули (М. Зощенко. Голубая книга). На повторе слова основан также прием дистинкции, при котором два повторяющихся слова называют подобные, но не противопоставленные друг другу объекты, между которыми проводится четкая грань: Ворон к ворону летит, Ворон ворону кричит… (А. С. Пушкин). Такое понимание дистинкции представлено в [Николаев 1992: 93]. …Сад не оскуднеет и разрастется еще больше и краше. От весны – к весне. От века – к веку (Континент. 1998. № 43); Шарик мечется прыжками, как заяц, то на задние ноги, то на передние, из угла в угол двора, из угла в угол, и морда в снегу (А. Солженицын. Крохотки); Тайная профессия. Родовая. Из века в век она передается по тайным каналам от человека к человеку. Из рода в роды. Из племени в племя. Из зла в зло (Ю. Азаров. Печора). Схема построения приема одна и та же: А в/из/к А или от А к А. Что касается плоки, то это гибридный РП, представляющий собой сочетание повтора слов с антитезой (т.е. совмещение на основе сходства и контраста). Понимание плоки как контекстуальной антонимии, основанной на повторе слова, см. в [Николаев 1992: 95].
291
Эпимона – повторение с небольшими вариациями одного и того же слова, словосочетания [Хазагеров, Ширина 1999: 287; Ахманова 2004: 527; Филиппов, Романова 2002: 79] или фразы (абод, комморация, консервация) [Москвин 2006а: 364]. И. В. Пекарская справедливо отмечает некорректность таких формулировок: непонятно, что подразумевается под «вариациями» [Пекарская 2000б: 154]. Иное понимание эпимоны как полного или перифрастического повтора частей фразы (эпифонема) представлено в [Волков 2001: 324], как употребление однокоренных слов в [Пекарская 2000б: 155]. 409
Приемы позиционно-лексического повтора могут лежать в основе построения целого текста или его значительного по объему фрагмента. Напр.: 1) Родина… У каждого она своя. И пусть даже называется по-хакасски Бей-Булук – Кобылий угол, но такая она родная и милая, такая же неповторимая, как и жизнь человека. Родина… Вот в том боярышнике я поймал когда-то лисенка. Радости-то сколько было! Родина… Больше всего люблю я, приехав, побродить по кривым улицам деревни (С. Пестунов. Сватова деревня) – анафора; 2) Где-то там, впереди, за разрывами, мой Сталинградский батальон. И этот батальон, где я сейчас, тоже мой. И тот мой. И этот. На самом деле теперь только этот мой. А тот уже не мой. Но мне кажется, что он еще мой. Думаю о нем сейчас, как будто он где-то за тысячу верст (К. Симонов. Живые и мертвые) – эпифора; 3) Надо было брать высоту Бугор – а у него умирала жена. Надо было решать, какого комбата посильней поставить на место убитого Тараховского – а у него умирала жена. Надо будет убрать подальше от дороги, чтобы не разбомбили, второй эшелон батальона связи – а у него умирала жена. Надо будет пробить заблаговременно, до начала наступления, вторую снежную дорогу к фронту, параллельно той, что идет, и не допустить, чтобы ее заранее искорежили, – а у него умирала жена… (К. Симонов. Живые и мертвые) – анаэпифора; 4) Холера в Одессе. Курортники в панике покинули гостеприимный город. На крышах вагонов битком, купе забиты, а в городе стало тихо: холера в Одессе… В ресторане свободно. «Заходите, рекомендуем…». В магазинах от вашего появления начинается здоровая суета. В трамвае вы могли уступить место женщине без опасения, что на него тут же ринется быстрый конкурент. Холера в Одессе!.. (М. Жванецкий. Одесса) – кольцо; 5) Первую мировую войну называли войной артиллерии. Вторую мировую войну называли войной моторов. Третью мировую войну теперь можно называть кнопочной войной (Завтра. 1998. № 52) – симплока. Лексический повтор может организовывать значительные фрагменты текста – «сквозной повтор» (термин из книги [Москвин 2006а: 305]), напр.: 410
Маленький человек родился маленьким, рос маленьким и, повзрослев, остался маленьким. Он просыпался по утрам маленьким, маленьким шел на службу и делал маленькую работу. Потом забирал из маленького детсада маленького сына, гулял с ним в маленьком дворике, пока маленькая жена не звала кушать маленький ужин. Маленький человек ложился спать маленьким и вставал по утрам все таким же маленьким, как вчера. И завтра он будет маленьким, и умрет он маленьким, и могилка у него будет маленькая, и память о нем будет маленькая (В. Монахов. Лжизнь). Помимо знаменательных слов повторяться могут слова служебные. Так полисúндетон (вслед за А. П. Сковородниковым) – прием, состоящий в избыточном с грамматической точки зрения повторе союзов при однородных членах предложения, частей предложения или предложений в составе ССЦ [ЭСС 2005: 241]292. Напр.: Как хочется, Господи, чтобы однажды и вдруг изменилось все и вся. Чтобы не проклинали плоть от плоти своей, чтобы мама и папа любили друг друга, чтобы дети их не слышали мата, не сжимались под ударом родительской руки. Чтоб у каждого маленького человечка был дом, где его ждут. Чтоб дети и взрослые не голодали. Чтобы мы, многострадальные, наконец-то стали жить как положено людям (Комок. 07.04.1999). Встречается также повтор предлогов (многопредложие), напр.: Я рассказывала Нине Николаевне о более поздних временах, о работе Георгия, о его друзьях, о привычках его, о взаимоотношениях с начальством (Л. Петрушевская. Сети и ловушки); Их главная характеристика – оторванность от фольклора, от идеалов сказочного наследия, от красоты (СГ. 21.02.1998). Одни исследователи повтор предлога рассматривают как разновидность полисиндетона, другие – как самостоятельный прием. Возможен одновременный повтор союза и предлога (как правило, это союз «и» с различными предлогами): За два с половиной месяца он нагляделся и на землю, и на небо, и на сосны и березы, и на лесные поляны и прогалины, и на этот густой ельник, подбегавший сейчас к дороге (К. Симонов. Живые и мертвые); Речь в таких случаях шла не о чем ином, как только о любви, потому что о чем ином могут говорить между 292
В этом же источнике дан обзор разных точек зрения на определение понятия полисиндетона (или многосоюзия, сúндезиса [Ахманова 2004: 405]). 411
собой девушки восемнадцати лет! Конечно, и о кино, и о спорте, и о книгах, и о погоде, и о своих матерях, и о деньгах, и о страшных случаях на улице, и о том, что обман и несправедливость неизвестны, и о детстве, об усталости, что болят ноги и душно, и о непорядках на работе (Л. Петрушевская. Приключения Веры). Синтаксическим повтором называют повтор словосочетания, предложения, отдельного члена предложения или словоформы [Москвин 2006а: 303]. Повтор слова в одной и той же форме, как и повтор слова в разных формах, повтор сочетания слов традиционно рассматривают в рамках лексического повтора, что мы и сделали выше. И в этом также есть логика: повтор модели словосочетания и модели предложения входит в понятие синтаксического параллелизма. Контактный повтор отдельного члена предложения образует однородный ряд, который является отклонением от речевой нормы только при условии, что его члены являются неоднородными семантически (синантройсм) или его продолжительность является больше среднестатистической. Конечно, такую среднестатистическую норму определить нелегко, но очевидно, что ряд, состоящий более чем из 5 (плюс-минус 2) компонентов, воспринимается как некое нагромождение. На синтаксическом повторе строятся изоколон и цепочка номинативных предложений, напр.: а) Сгустилась мгла. Вспыхнули прожекторы. Отворились ворота. Во мгле растаяло красное платье Марты (А. Жигулин. Черные камни); б) Она так нигде толком и не потрудилась. Дорогие бутики. Фитнес-клубы. Бассейны. Заграничные курорты. Светские рауты (МК. 6-13.04.2000); Вадим был в шоке. Чужой спящий город. Избитый до потери сознания брат. Пьяный мент-вымогатель (КП. 25 авг. 1994 г.). На операторе семантического (смыслового) повтора основан лексический плеоназм293, который возникает вследствие столкно293
Плеоназм, образуемый первым способом, определяют как тип амплификации (нагромождение, нагнетание синонимов), что неточно, поскольку плеоназм может создаваться и при помощи двух синонимичных слов, что не является «нагромождением». Для этого типа плеоназма существует синонимический термин периссология [Ахманова 2002: 321]. В то же время этот термин используют не для обозначения вида амплификации, 412
вения в узком контексте 1) синонимических или близких по смыслу слов, сочетаний слов; 2) таких слов, значение одного из которых входит в значение другого (так называемая «избыточная лексикализация» по [Кобозева, Лауфер 1990: 131]). Напр.: Остается единственное – верить в Чудо. Верить в Мага, Волшебника, Чародея, Кудесника (КК. 19.07.1994); Обман! Все обман! Притворство! Ложь! Не надо цветков! (А. Астафьев. Затеси); Я тебя отпускаю – беги, / Улепетывай, Лис, без оглядки (А. Казанцев); В первый раз и кровью, и умом / Ни к селу, ни к городу, некстати, / Я в себе самой, в тебе самом / Вижу лик желанного дитяти (Н. Слепакова); …Не без растерянности поглядываем на берега, на которых уже, подмигивая, прохаживаются всякого рода проходимцы, жулики, хитрецы, арапы, комбинаторы и заплечных дел мастера (М. Зощенко. Голубая книга); Ваше дело, верить-не верить. Но поверить в это невозможно. Это какой-то бред, чушь собачья (ЮСВ. 28.02.1996). Схема приема: А1А2А3 (n) при А1 = А2 = А3. Или: По-настоящему похудеть можно быстро и просто, принимая пищу до пяти раз в день. Без лекарств. Без изнурительных упражнений. Этот метод гарантирует устойчивый результат. Программа похудения с Пластырем Стройности обеспечит быстрый и надежный результат. Программа позволяет быстро, эффективно и надолго сбросить лишний вес. Даже если вы продолжаете есть 5 раз в день. Без медикаментов. Без изнурительных физических упражнений (МК. 16-23.03.2005) – синонимические повторы, в том числе усиленные парцелляцией (Без лекарств / медикаментов; Без изнурительных упражнений). Употребление близкого по смыслу или тождественного по значению парного слова, по наблюдениям О. А. Лаптевой, сопровождается «…размыванием границ лексических (словарных) значений обоих слов, что ведет к их сближению и тем самым увеличению возможности взаимозаменяемости». Такую «вырисовывающуюся фигуру» она условно обозначает как «можно наоборот». Вот некоторые из примеров, которые приводит О. А. Лаптева: (…) издалека сложности и трудности обычно представляются преувеличенными, гипертрофированными (Новое русское слово. 24.12.1990); А я тут а для наименования группы приемов, основанных на речевой избыточности, или многословии, т.е. в качестве родового (синоним – макрология [Хазагеров, Ширина 1999: 241]). 413
вышла в красивом, роскошном платье, и все ахнули (МК. 19.02.1994); Выяснилось, что к своей акции Ш. готовился серьезно и тщательно (Изв. 22.05.1996) [Лаптева 2000: 21]. Исследователь пишет, что сочинительные союзы в этом приеме не связывают автономные в смысловом отношении слова, а лишь участвуют в реализации общей функции усиления эффекта воздействия на воспринимающего текст [там же: 22]. Сочетания слов, в которых определение повторяет признак, уже содержащийся в главном слове сочетания, называют тавтологическими294, напр.: Земля кишмя кишит уродами./ И я – прекраснейший из них (А. Муллин) – так называемый «творительный усиления», основанный на гомеологии295. Эти сочетания необходимо отличать от нормативных тавтологий типа реальная действительность, букинистическая книга, в которых определение перестало быть простым повторением основного признака, уже содержащегося в определяемом слове (см. об этом, напр., [Перевозчикова 1966: 69-77]). Если плеоназм, образованный первым способом, является отклонением только от речевой нормы, то плеоназм второго типа (за исключением контекстуального: «пешком хожу по лестнице») может рассматриваться как отклонение от нормы сочетаемости слов, в соответствии с которой сочетающиеся слова должны иметь общую сему, здесь же происходит полное дублирование сем одного слова значением другого. В рамках одного текста возможно совмещение омонимов разного типа, напр.: У ворóт есть вóрот. У ворóн есть вóрон. У вора – веревка. У меня – сноровка (Е. Пестерева) – совмещение омографов. Широко известен такой прием, как парономазия, или паронимическая аттракция296. Как правило, его рассматривают в рамках 294
«Семиологический неточный повтор» по [Корольков 1973: 78]. Такие сочетания рассматриваются в рамках «этимологической фигуры» в [Москвин 2006а: 371]. 296 При широком осмыслении паронимической аттракцией называют целенаправленное сближение в тексте созвучных слов (не только паронимов, или парономасов, но и явлений тавтологии, поэтической этимологии), а также появление одного из них в то время, когда по смыслу ожидается 414 295
звукового повтора (см., напр., [Вольская 1999: 51]). Хотя функцию этого приема обуславливает не сам звуковой повтор, а совмещение похожих по звучанию словоформ (паронимов или парономасов), напр.: И наблюдая формы и методы борьбы за депутатские мандаты в сегодняшних условиях непрекращающихся выборов, нетрудно заметить, что на смену «коммунистического барокко» пришел стиль «демократического барака» (Хак. 22 окт. 1997 г.) – совмещение в узком контексте слов барокко и барак, похожих по звучанию, позволяет автору выразить негативную оценку происходящему в стране. Или: Твой город барочный, барачный меня заморочил / а может, пришпилил к летящему в небо кресту (Г. Чернобровкин); Власть всегда жила от народа как-то особняком. И строилась тоже особняками (АиФ. 1999. № 15). Отклонения с оператором аттракции на основе контраста На операторе совмещения в тексте единиц, находящихся в отношениях антонимии, строится антитеза: Если умирает ребенок – это громкое дело. О нем кричат родители, им сострадают знакомые. А есть тихое горе. Когда убивают мама с папой. Запершись на ключ, в стенах собственной квартиры (КП. 30.01.1998). По структуре и функциональной специфике выделяются следующие типы антитезы: а) акротеза – утверждение одного из признаков предмета, явления за счет отрицания противоположного (строится по схеме не А, а Б): Эх, лесок, лесок… не пригородный, не загородный, а городской! (Б. Рахманин. Печаль моя светла…); б) амфитеза, или синециозис, – указание на наличие у предмета противоположных признаков; описание целого путем указания на противоположные его точки [Москвин 2006а: 54] (чаще строится по схемам: и А, и Б; А и Б): Во время решающих футбольных матчей на трибунах бок о бок оказываются бандиты и милиционеры, акаде-
другое (см., напр., [Ткаченко 1989: 126]). В последнем случае, полагаем, имеет место другой прием, который должен быть терминирован иначе, поскольку в основе его лежит иной оператор – принцип замены. 415
мики и студенты-двоечники, пионеры и пенсионеры, банкиры и нищие… (СГ. 27.12.1997); в) диатеза – утверждение среднего признака путем отрицания противоположных: Странный это был город. Не злой и не добрый, не хороший и не плохой, он был, как жизнь, одновременно всем – и прекрасным, и ужасным, замечательным и дурным (А. Шавкута. Метаморфозы) – сочетание амфитезы и диатезы; Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так, вообче (Л. Филатов); г) дезидентификация, указывающая «…на несходство объектов, которое проводится, как правило, по признаку действия, свойственного для одного из них и нехарактерного для другого» [Бочина 2002: 227]): Да бабуся какая-то стояла, местная. С букетом. Сама она была маленькая, невзрачная, курносенькая, в линялой кофточке, а букет… Огромный, тяжелый, по-царски роскошный (Б. Рахманин. Поцелуй). Выделяют и такие разновидности антитезы, как синкризис, или синхризис (симметрично построенные предложения, в каждом из которых имеется ряд компонентов, вступающих в антонимические отношения [Хазагеров, Ширина 1999: 268]), и аллойозу, или аллойозис (подчеркивание несхожего в схожем) [там же: 197], напр.: По фотографии могу сказать – жив человек или помер. Если снимок теплый – значит живой. Если холодный – мертвый (КК. 19.07.1999) – синкризис. На грамматической антонимии строится грамматическая антитеза (по сути синкретичный РП) как использование в узком контексте словоформ одной лексемы, противопоставленных грамматическими значениями (подробно об этом приеме см. [Самигулина 2003]). Не рука, а ручонка (суффиксы субъективной оценки являются формообразующими). Согласно одной из точек зрения, антитеза – прием, основанный на принципе контраста [Пекарская 2000б: 188; ЭСС 2005: 321]. Уточняя, можно сказать, что в основе антитезы лежит отклонение от речевой нормы, продуцируемое при помощи оператора совмещения на основе контраста (противопоставленности единиц в каком-либо отношении). Возможно совмещение не только языковых или речевых антонимов, но и элементов предложения (текста), противопоставленных друг другу в смысловом отношении, напр.: В этом райском уголке, 416
на острове красоты и благополучия, все так прочно, надежно, устойчиво, потому что вовне тонут подводные лодки, рушатся с небес самолеты, падают мосты, взрываются газопроводы. Здесь так благоухают цветы, так серебрится в фонтанах вода, потому что города, государства превратились в трущобы, в скопища болезней и смрада. Здесь так вкусно едят, учат детей за границей, отсылают любимых рожениц в клиники Парижа и Лондона, потому что туберкулез и сифилис костят народ, русские женщины делают аборты ржавыми гвоздями, и комочками пыли летят по России беспризорные дети… (Завтра. 2001. № 30); Россия вступила в 1995 год по колено в крови. Мы поднимали бокалы с шампанским и желали друг другу счастья, а в Грозном в эти же минуты умирали, умирали, умирали люди. Наши мальчишки, выросшие, кстати, в новой «демократической» России, в свой девятнадцатый-двадцатый год получили вместо подарков – свинец. Они, мальчишки, валяются возле сгоревших танков и БМП уже пятые сутки, а их все снимают на фото и на видео и тиражируют на экранах всего мира. А на наших – шутки и пляски, песни и тосты… (СГ. 28.12.1996). Особым приемом является реконсилия (мнимая антитеза), описанная Э. М. Береговской как вовлечение в семантический контраст слов, которые не имеют никаких оппозитивных сем: Удивительная вещь: ткань с разводами, а брак (Э. Кроткий) [Береговская 2003: 119]; Наблюдения ученых: привлекательные женщины отвлекают (Телесемь. 13-19.08.2007); Да, причем на нем форма-то была отглаженная, а человек был очень помятый (Е. Гришковец. Спектакль на DVD-диске). Реконсилия – метафорически нейтрализуемая антитеза. Отклонения с оператором аттракции на основе соподчинения О совмещении гиперонима и гипонимов в тексте пишет Л. С. Ширина. Она называет это явление (прием) «гипонимической амплификацией» [Ширина 1987: 89]. Думаем, что совмещение гиперонима и гипонимов как намек на известного персонажа басни И. А. Крылова представлено в следующем тексте: Как сказал поэт про какого-то, не помню, зверька – что-то такое: 417
И под каждым ей листком Был готов и стол, и дом. Это, кажется, он сказал про какого-то отдельного представителя животного мира. Что-то такое в детстве читалось. Какая-то чепуха. И после заволокло туманом. Одним словом, речь шла там про какую-то птицу или про какую-то козу. Или, кажется, про белку (М. Зощенко. Голубая книга). Отклонения с оператором аттракции на основе градуальности Градуальное совмещение в узком контексте двух и более единиц образует прием градации, разновидностями которого традиционно считают климакс (восходящая градация) и антиклимакс (нисходящая градация). В качестве принципов, лежащих в основе этого приема, А. В. Щербаков [Щербаков 2006: 50] называет принцип градуальности и принцип перечислительного ряда. Поэтому, очевидно, исследователи говорят о том, что минимальное количество членов градационного ряда – три, а двучленную градацию считают «неполноценной», редуцированной. «Если… градационный ряд состоит из двух элементов, то невозможно выявить вектор градуальности, т. е. направление расположения членов градационного ряда – восходящее или нисходящее» [там же: 81]. Прием двухкомпонентной градации существует, а значит, принцип перечислительного ряда для этого приема нерелевантен, напр.: Но Антон не вернулся. Прошел день. Минул месяц. Но никто розыском юноши не занимался…(АиФ. 2001. № 8); Наркомания – это болезнь. В России вылечиться трудно. Да что там трудно, практически невозможно (Хак. 17.02.1998); Но однажды, когда она пришла с работы, Левочкина не оказалось дома. Он не вернулся в этот вечер. И утром он не вернулся. Он не вернулся никогда (Э. Русаков. Дон Жуан Левочкин). Также факультативен для градации оператор повтора. Корневой повтор с суффиксами градуирующего типа по признаку «уменьшительность-увеличительность» лежит в основе «градуирующей номинации» по [Земская 1992: 177], напр.: Исповедующиеся, словно стараясь выговориться на все времена, подолгу нашептывали чтото на ухо священнику, видимо, перечисляя грехи, грешки и малюсенькие грешочки, приволокшиеся за ними в храм Божий… (А. Гри418
горьева. Два рассказа); Среди оборванных старух, стариков и детей особенно странно выглядели на этой дороге молодые женщины в модных пальто, жалких и пропыленных, с модными, сбившимися набок пыльными прическами. А в руках узлы, узелки, узелочки, пальцы судорожно сжаты и дрожат от усталости и голода (К. Симонов. Живые и мертвые); Он рисует реки, речки, ручейки, плотной паутиной покрывшие весь район… (КР. 27.03.1999). На совмещении разного типа основан синкретичный РП, который условно можно назвать приемом синтагматизации единиц разных парадигм, напр.: Люди делятся на неудачников, удачников и дачников (1 канал. «Доброе утро». 16.08.2007) – совмещение антонимов неудачники и удачники со словом дачники (парономазы). Причем в составе высказывания названные слова располагаются по принципу последовательного усечения. Отклонения с несколькими операторами На последовательном подчинении синтаксических конструкций с лексическим повтором, образующем цепочку, протяженность которой превышает обычную (среднестатистическую), основан очень редкий прием конкатенации, напр.: «…существует огромный массив слов, к которым понятие "правильности" кажется вообще неприменимым напр., акцентный вариант прóтокол в устах профессора, знающего эту неправильность и знающего, что слушатели знают, что он знает » (В. Я. Мыркин. Всегда ли языковая норма соотносится с языковой системой?); Он думал, что уснула я и все во сне стерплю, иль думал, что я думала, что думал он: я сплю! (Ковентри Патмора // Р. Солнцев. Диалоги Платоновой); Бригадир понимает, что чего-то не понимает, но не понимает, что именно он не понимает (из разг. речи); Приснилось мне, будто я сплю. Сплю и вижу во сне, будто сплю и вижу сон, будто сплю. Сон во сне, как матрешка в матрешке (Изв. 01.12.2001).
419
3.2. Риторические отклонения от формально-логической нормы (законов формальной логики) Термин «логика» применяется как для наименования науки о законах и формах правильного мышления (формальная логика), так и для обозначения закономерностей объективного мира (так называемая «логика вещей», «логика событий»). Исследователи не всегда оговаривают, в каком значении они используют этот термин, в результате чего возникают споры о том, как квалифицировать то или иное речевое явление. Так, фольклорное стихотворение «Ехала деревня мимо мужика...», с точки зрения некоторых лингвистов, построено на основе алогизма, который, в свою очередь, определяется по-разному: как «…стилистический прием, близкий к оксиморону; умышленное нарушение в литературном произведении логических связей с целью подчеркнуть внутреннюю противоречивость данного положения (драматического или комического)» [Квятковский 1998: 23-24] или как «…парадигматический принцип организации изобразительного средства (тропа, фигуры) или выразительного средства (текстовой фигуры)» [Пекарская 2000б: 139]. Поэтому в рассматриваемом стихотворении А. П. Квятковский отмечает наличие алогизма как стилистического приема, а И. В. Пекарская – «семантический хиазм», построенный на основе принципа алогизма. Иной точки зрения придерживается В. П. Москвин. Он разграничивает стилистические приемы, нарушающие логичность (связность) речи (фигуры алогизма: зевгма, оксиморон, паралепсис, палисиада, анантаподотон), и стилистические «приемы нарочито неправдоподобного описания» (гипербола, литота, реализация метафоры, амфигурия). В. П. Москвин отмечает, что «неправдоподобными принято считать описания событий, явлений и фактов, с точки зрения здравого смысла невозможных, нереальных» [Москвин 2000: 44]. Поэтому в основе шуточного стихотворения «Ехала деревня мимо мужика», по его мнению, лежит амфигурúя как прием нарочитого неправдоподобия, состоящий в нагнетании логически не связанных словосочетаний и фраз, создающих впечатление абсурда [там же: 46]. Другими словами, амфигурия представляет собой, в трактовке этого исследователя, прием, нарушающий логическую связность речи и ее правдоподобие одновременно. Разночтениями в понимании логики объясняется тот 420
факт, что «…в специальной литературе фигуры неправдоподобия и фигуры алогизма до сих пор не разведены; список их далек от исчерпывающей полноты» [там же]. Необходимо иметь в виду, что «предмет логических наук отличается от предмета всех остальных наук тем, что логика исследует не закономерности объективного мира (природы и общества), чем занимаются физика, химия, биология, история, социология и др. естественные и исторические науки, а законы и формы мышления (выделено нами. – Г. К.), – высшего продукта особым образом организованной материи – мозга» [Кондаков 1975: 287]; понимание же под «логикой» связей, отношений и законов развития вещей и явлений материального мира («логика вещей») – «чисто условное понимание слова "логика", так как в самих вещах нет речи, мысли, разума» [там же: 288]. Логические законы «…непосредственно не являются законами бытия» [Кондаков 1975: 310], однако входят в наши знания об устройстве мира, в частности, знания о человеке и о нормах мышления (т.е. в «нормы психического абсолюта» [Болотов 1985: 94]). Поэтому под термином «паралогические РП» (алогизмы – в иной терминологии) целесообразно понимать прагматически мотивированные отступления от законов и правил именно формальной логики, а не от соответствия ситуации реальной действительности («логики вещей»), тем более что отклонения второго типа имеют терминологическое наименование. Исследователи выделяют несколько разновидностей логики, в том числе объективную логику (которая «…исходит из того, что все формы мышления и логические законы являются отражением в человеческом мозгу закономерностей внешнего мира, существующего вне и независимо от сознания» [Кондаков 1975: 402]) и логику нормативную (как «один из разделов формальной логики, в котором исследуются логические структуры, выражающие нормы и нормативные действия. Различают следующие основные виды норм: 1) правила (напр., правила этики, правила общежития, правила спора, правила синтаксиса и т.п.); 2) предписания (напр., закон колхозной жизни, указ, приказ и т.п.); 3) технические нормы» [там же: 390]). Если понимать логику широко (как совокупность наук), включая в нее и объективную логику, и логику нормативную, то все РП можно назвать паралогическими (ср. с рассмотренной в предыдущей главе концепцией Е. В. Клюева, в которой тропы и фигуры рассматриваются как основанные на паралогике). Однако такой подход к системе 421
РП был бы нецелесообразным из-за возникающей многозначности термина «паралогический прием», который обозначал бы в этом случае и родовое, и видовое понятие. Рассмотрение же паралогики как механизма (принципа) построения всех РП, на наш взгляд, также нецелесообразно, поскольку влечет за собой понимание и речевых ошибок как логических аномалий (ср.: неправильное произношение слов как логическая ошибка в [Кондаков 1975: 384]). При квалификации приема как паралогического мы анализируем его логическую форму (логически правильное / неправильное, или соответствующее / не соответствующее четырем основным законам формальной логики), при квалификации же явления как «приема неправдоподобия» – содержание высказывания (текста), соответствие / несоответствие его стандартной картине мира. Отклонения от закона тождества По нашим наблюдениям, отклонения от закона тождества продуцируются на основе двух операциональных принципов – замещения и наложения (как типа совмещения). Отклонения с оператором замещения На операторе замещения (точнее было бы сказать – подмены) строится апофазúя, или апофаза, заключающаяся в том, что «…автор меняет или опровергает высказанную им ранее мысль…» [Квятковский 1998: 53]. Другими словами, это «…риторическое отрицание, опровержение самим того, что только что утверждалось» [Филиппов, Романова 2000: 89]297. Иллюстрацией этого приема может служить отрывок из стихотворения К. Чуковского «Смешной слоненок»: Одну простую сказку, / А может, и не сказку, / А может, не простую / Хочу я рассказать. / Ее я помню с детства, / А может, и не с детства, / А может, и не помню, / Но буду вспоминать. / В од297
Ср. с апофазисом (скорее речевой тактикой): «Неспециально охарактеризованная фигура, связанная с разбором альтернатив и отвержением всех, кроме одной» [Хазагеров, Ширина 1999: 211]. 422
ном огромном парке, / А может, и не в парке, / А может, в зоопарке / У мамы с папой жил / Один смешной слоненок, / А может, не слоненок, / А может, поросенок, / А может, крокодил. Или: Скажи мне, что я единственная, – попросила она. – Скажи: ради тебя я помою посуду, постираю белье, не пойду на футбол; скажи: весь следующий месяц я плюну на дела, на работу, на все, и буду с тобой, потому что ты важнее; скажи: я буду каждую неделю дарить цветы, даже если их придется возить из другого города; скажи: я напишу письмо жене президента, чтоб она подарила тебе свои черевички; скажи, что ты посвятишь мне рассказ, поэму, музыку; скажи, что ты будешь чувствовать, когда я буду уезжать, без предупреждения звонить, звонить… Боже, как ты меня любишь!.. Не говори ничего… (Е. Птухин. Скажи мне // ЛГ. 03-09.03.2004). Оператор замены тезиса использован при построении следующего паралогического высказывания: Жена кричит мужу: – Хаим, одно из трех: или закрой форточку, или два раза получи по морде! (Всем… 02.12.2005). Отклонения с операторами прибавления Оператор наложения характерен для адианоэты, или лексической амфиболии, – «…нарушение тождества семантики слова посредством постановки его в такой контекст, в котором это слово одновременно реализует два разных значения» [ЭСС 2005: 32]298. Происходит отклонение от логической нормы, которое называется «учетверением термина» [Скребнев 1975: 152]. Таким образом, адианоэта основана на отклонении от смысловой однозначности слова в контексте, напр.: Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами неинтересно…(Всем… 07.10.2005); У меня со вкусом обставленная комната: кресло, подушка, гардероб, стол. Первое – инвалидное, вторая – кислородная, третий – для смирительных рубашек, четвертый – операционный. И стул: иногда хороший (ЛГ. 2005. № 28); Молодожены Степановы жили регулярно. Прошу прощение за из298
Этот прием описывается также под термином дилóгия в [Ахманова 2004: 134]. 423
битую фразу, но жили они так регулярно, что им завидовал весь подъезд (ЛГ. 2005. № 36); – Мам, – говорит Вася, – на что нам поросята? Вырастут – свиньями станут. В грязи будут валяться. Противно-то как (Ю. Коваль. Приключения Васи Куролесова); Блюда, которые готовит моя жена, тают во рту! Но так хочется, чтобы она их сначала размораживала… (Телесемь. 13-19.08.2007); В историю можно попасть, а можно и вляпаться (СГ. 19.06.2002); После освобождения каторжники ведут себя раскованно (http://www.anekdot.ru). Это один из самых частотных паралогических приемов. При помощи оператора наложения строится зевгма, в которой ядерное слово, будучи соотнесено с двумя или более неоднородными понятиями, реализует одновременно два или несколько разных значений [ЭСС 2005: 131], напр.: Время наводить чистоту. На улице, в доме, в сердцах… (АиФ на Енисее. 1999. № 2); Знаю три языка: вареный говяжий, консервированный свиной и немецкий (со словарем) (ЛГ. 2005. № 28); В России все грязное: машины, помыслы, девушки, цветы, поля, весна; В предчувствии этого невеста с зубами разводит на кухне если не цветы, то тараканов (В. Ерофеев. Энциклопедия русской души); Раздобыв с неимоверными приключениями номер телефона бывшего покровителя и, собрав в кулак остатки внешности и всю свою решимость, она решила еще попытать счастья (А. Пынзару. Индия и прочее); Но я не смогла противиться его обаянию, оно осветило даже самые темные уголки моей квартиры. И души (А. Матвеева. Наказания). При помощи оператора совмещения (аттракции) на основе контраста строится прием обманутого ожидания (в его узком понимании как несоответствие пресуппозиции и ассерции), напр.: Своими поступками он напоминал раннего Пушкина. Очень раннего. Когда тот еще не умел ни писать, ни говорить (Телесемь. 30.0705.08.2007); – Ты доволен своими пчелами? – Очень. Мед я еще не собирал, но они изжалили всех моих соседей (Всем… 07.10.2005); Или аналогичные примеры: …И вот нападающий прорывается с фланга. Удар! В «девятку». Жаль, хороший был автомобиль… (КП. 04-11.2002); Я с одним парнем больше двух недель не гуляю. Ноги устают (Телесемь. 12-21.10.2007); Каждый вечер мама забирала Игорька домой: ему не нравилось питание, непонятные поначалу 424
правила, и сильно утомляли тесть с тещей (Телесемь. 2007. № 31); Чтобы ваши размышления о высоких материях не были прерваны самым бесцеремонным образом, закрывайте дверь туалета на шпингалет (Всем… 30.09.2005). Отклонения от закона противоречия и закона исключенного третьего с оператором аттракции как типом совмещения На операторе аттракции (сближения) строятся так называемые «противоречивые высказывания» [Кифер 1985], которые основаны на конъюнкции антонимов или на конъюнкции утверждения и отрицания. 1. А: В, где А и В – антонимы, напр.: – Я обречен на одиночество. – Почему? – Л у ч ш е тебя не встречу, а х у ж е тебя не бывает (Шоу шепелявых // Авторадио. 09.07.2006) – утверждается, что женщина одновременно лучше и хуже других; 2. А: не-А, напр.: – Если человек рождается талантливым – это счастье? – Счастье. И несчастье (СГ. 20.12.1997). Вариант второй схемы приема, по сути, охарактеризован Е. В. Падучевой, которая анализирует ситуации коммуникативных неудач (в том числе связанных с несоблюдением постулатов коммуникации) в сказках Льюиса Кэрролла и пишет о тавтологии вида А ∨ А (А или не А), порождающей, по ее мнению, неинформативность высказывания. Этот прием она называет «игрой на тавтологиях», широко используемой в пьесах абсурда, например, в авторских ремарках в «Лысой певице»: Звонок звенит или не звенит; Он обнимает или не обнимает миссис Смит [Падучева 1982: 91]. Варианты логических противопоставлений с участием отрицания не при втором члене подробно описывает Г. Н. Эйхбаум в статье «Экспонентно противоречивые высказывания и их смысл» [Эйхбаум 1987: 58-68] (ниже к моделям 2.1. и 2.2. приведены примеры этого исследователя), напр.: 2.1. А и вроде бы не А: Иван купил дом и вроде бы не купил его; 2.2. А и (но) в то же время (одновременно, как бы) не А: Я понял: он лежит тут, но в то же время его нет, он умер, и никогда 425
больше я не увижу его (В. Шефнер) – псевдопротиворечие (или парадокс как высказывание с нейтрализуемым противоречием). На конъюнкции утверждения – отрицания – утверждения строится прием коррекции (поправления, риторической поправки)299. Схемы его построения: А. (то есть) не А: Он полз, какой-то бетонной трубой – не трубой, а тоннелем, что ли, где из боков торчала незаделанная арматура…(А. Солженицын. Раковый корпус); А. Нет не А, (а) С: Не только воздух, он разрубил, кажется, и самую землю. Нет, не разрубил – он так взмахнул, как проложил бы некую великую трассу (А. Солженицын. Для пользы дела); Главное – бодрости духа и… не думать о пенсии, хотя возраст уже не пенсионный. Нет, не пенсионный, а еще более зрелый (СГ. 24.01.1998); А, нет С: Умирали каждый день, каждую ночь сотнями. Нет – тысячами в яму (В. Зазубрин. Два мира); И он, теряя равновесие, неуклюже бежал по насту, будто кто-то его подталкивал сзади, и Наташа смеялась, а наст похрустывал, как тонкое стекло, нет – как слюда, нет – как пересохший картон, нет – как вафля… (Э. Русаков. Заячьи следы); А. И не то что А, а С: Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а целый бой. На углу Глазовой и Боровой (М. Зощенко. Нервные люди). Высказывания, в которых одновременно утверждается и отрицается какой-либо факт, называют «самофальсифицируемыми», напр.: Я не собираюсь заботиться о состоянии для своих детей – в первую очередь потому, что у меня нет детей; Документов о том, как израсходовались деньги, не сохранилось. Я их просто не заводил (пример 299
Коррекция, или поправление, определяется как гибридная фигура, сочетающая свойства риторического вопроса, антитезы и градации и заключающаяся в том, что сначала автор что-либо утверждает, затем ставит под сомнение или отрицает, после чего снова утверждает и подчеркивает с еще большей силой: Тут в воспоминаниях пробел. Нет, не пробел, – а яма, провал. Разве можно назвать пробелом черное? (Грекова) [Хазагеров, Ширина 1999: 239]. В приведенном примере имеет место не перенос, а смена модальности: утверждение – отрицание – снова утверждение. Поэтому отнесение коррекции к грамматическому тропу считаем нецелесообразным. Перед нами синкретичный прием, основанный на операторе контактного совмещения: утверждение – отрицание – утверждение (контаминация положительно-отрицательных структур – по [Пекарская 1999: 53]). 426
Е. В. Падучевой [Падучева 1982: 91]300). Ср. (псевдосамофальсификация): И вдруг оно (существо. – Г. К.) чувствует, как чья-то рука лезет в его карман, которого, вообще-то говоря, у него и нету (М. Зощенко. Голубая книга); В России эпидемия туберкулеза, но мы об этом не знаем (КП. 13.01.1998); СССР, который начали обновлять и улучшать примерно тогда же, когда Татарский решил сменить профессию, улучшился настолько, что перестал существовать… (В. Пелевин. Generation «П»). Возможна текстовая самофальсификация, напр.: Сейчас я объясню значенье Инь и Ян… Вы знаете, друзья, как ловят обезьян? Находчивый индус кладет в кувшин орехи И прочь идет, подлец, уверенный в успехе: Просунет лапу зверь, орехов схватит горсть – И тут же, как в капкан, лесной попался гость! Ты разожми кулак, добычу брось и драпай! Но обезьяна остается… с лапой. Вот так же за слова цепляется дурак. Читатель! разожми кулак. (М. Лаврентьев. Инь и Ян) – разожми кулак = не цепляйся за слова, не верь слепо тому, что говорят. Текст отсылает к самому себе; не верить чужим словам значит не верить и тому, что говорит автор в начале текста. Самофальсификация не всегда является приемом. Например, из речи студентов в ситуации ссоры: Я не желаю тебя выслушивать!
300
Е. В. Падучева называет такие факты нарушением презумпций, или пренебрежением презумпциями. Такого рода высказывания, как она отмечает, используются для создания экивока, т.е. «…текста, который, при случае, дает возможность своему автору отпереться от обвинения во лжи, хотя наталкивает читателя именно на такое понимание, которое является ложным» [Падучева 1982: 116]. В этом отношении интересен анекдот: Встречаются два новых русских. Один другому: – Слушай, а не хочешь купить вагон сахара? Второй почесал репу и говорит: – А почему нет? Куплю. По рукам. И разошлись… Один искать деньги, второй – вагон сахара… (Всем… 04.11.2005). Выделенное высказывание позволит при отсутствии сахара оправдаться: Я просто спросил, не хочешь ли ты… но ничего не предлагал. 427
Есть еще вопросы?; Не желаю о нем ничего слышать! Что он тебе наговорил? К «самофальсифицируемым высказываниям» А. Д. Шмелев относит паралептические конструкции (паралепсис), при помощи которых говорящий упоминает то, о чем обещает умолчать (определение А. Г. Назарян по [Москвин 2000: 42]). Паралептические конструкции начинаются со слов: Я не буду даже упоминать о… Я ни слова не скажу о… Я не буду говорить о том, что… Не говоря уже… Я (уж) не говорю… Да я тебе ни слова не скажу о том, как ты ужасно вел себя сегодня вечером, потому что вовсе не хочу, чтобы ты на меня разозлился (из разг. речи). В. З. Санников пишет о том, что степень самофальсификации может быть различной. В высказывании типа В своем докладе я не буду говорить о синтаксических свойствах рассматриваемых единиц самофальсификации, по мнению исследователя, нет. В качестве примера «"формальной" самофальсификации» (неполной самофальсификации) он приводит то высказывание, которое принадлежит Н. А. Струве и которое А. Д. Шмелев трактует как самофальсифицируемое: Мы не будем здесь говорить о попытках Рима – извечных, начиная с крестоносцев ХIII в. и кончая орденом иезуитов в ХХ-м, – распространять свое влияние, а если можно и власть на Россию. По мнению В. З. Санникова, А. Н. Струве здесь ничего не сказал, а лишь упомянул об общеизвестном факте, не рассказывая о нем подробно. «Полная самофальсификация», по наблюдениям исследователя, встречается «не так уж часто» [Санников 1999: 420-421]. Вот он уехал, а она и сидит, что дура, мечтает про разные отвлеченные вещи. Ну, пойди постирай, если не хочешь физкультурой заниматься. Или пойди тому же самому Горбатому кровать прибери. Нет! Сидит и сидит. И кушать не просит. Зато потом, наверное, легко рассталась со своими мечтами и не могла через это на сушу выбраться. Ну, постольку поскольку она уже утонула, не будем тревожить ее память разными оскорбительными замечаниями (М. Зощенко. Голубая книга). 428
Близки к «самофальсифицируемым высказываниям» случаи «модального рассогласования» (противоречия модальных рамок), об одном из которых пишет И. М. Кобозева. Это прагмасемантическая аномальность, возникающая «…из противоречия между неконвенционально подразумеваемыми условиями успешности побудительных высказываний в форме императива и конвенциональными компонентами смысла, которые вносятся в семантику высказывания модальными частицами», напр.: А ну дай мне эту книгу, – попросил он [Кобозева 1990: 197]. Подобное явление было описано Ю. Д. Апресяном: «Логическое противоречие обычно не порождает языковой ошибки, если оба противоречащих друг другу смысла находятся в собственно утвердительной части предложения и выражаются лексическими средствами языка, – пишет исследователь. – Если же по крайней мере один из противоречащих друг другу смыслов находится в модальной рамке (или пресуппозиционной части) предложения или выражается грамматическими средствами, то логическое противоречие порождает языковую аномалию», напр.: Даже Петя-то пришел. «Объясняется это, в частности, тем, что модальная рамка (и пресуппозиция) по самой природе вещей должна быть внутренне непротиворечива и не должна противоречить остальному материалу предложения» [Апресян 1995: 51]. Таким образом, «модальное рассогласование» – это отклонение от логико-речевой и языковой нормы одновременно. Паралогическим приемом является совмещение (соединение) в одном перечислительном ряду родового понятия и понятия видового, напр.: Одним словом, это была поэтическая особа, способная целый день нюхать цветки и настурции или сидеть на бережку и глядеть вдаль… (М. Зощенко. Рассказ про даму с цветами). Среди отклонений от речеповеденческих норм оператор совмещения реализуется в таком типе противоречия, как противоречие между намерением и поступком (об этом противоречии как приеме см. [Санников 1999: 423]): Вчера смотрел КВН, хохотал до упаду. Даже после того как он закончился, никак не мог остановиться. Пришлось посмотреть «Аншлаг» (Телесемь. 23-29.10.2006) – желание адресанта остановиться не согласуется с дальнейшим его поведением (просмотром юмористической передачи), но, возможно, имеется намек на низкий уровень шуток «Аншлага». Приемом, построенным на отклонении от закона исключенного третьего при помощи оператора наложения, судя по определению 429
(но не примеру) Квинтилиана, является синойкиоза: «…в нем, объединяются два противоположных понятия: "скупой настолько же не владеет тем, что имеет, как и тем, чего не имеет"» [Античные теории… 1996: 286]. В современных же работах этот прием называется иначе – синециозисом («…объединение противоположных понятий в единое смысловое целое, без их явного противопоставления, приписывание одному и тому же предмету (лицу) противоположных качеств» [Филиппов, Романова 2002: 88]). Думается, именно этот прием используется в высказывании А. Вампилова: Не ищите подлецов. Подлости совершают хорошие люди (человеку приписывается поступок, несовместимый с его ранее безупречной репутацией). И. В. Пекарская для обозначения одновременного существования во фразе двух взаимоисключающих понятий, характеризующих один и тот же предмет, вводит термин симультатив: После меня ты схоронишь / Меж двух дорог, двух широких – / между двух узеньких тропинок (К. Д. Бальмонт) [Пекарская 2000б: 139]. Совмещение противоречивых высказываний иногда лежит в основе построения малоформатных речевых жанров, например, комического диалога: – Мой сын выше меня на целую голову! Но вот что еще настораживает – он старше меня на три года… (КП. 26.06.2002) – презумпция первого утверждения входит в противоречие со вторым утверждением. Отклонения от закона достаточного основания Отклонения с операторами совмещения Совмещение (наложение) двух сравнительных оборотов видим в следующем паралогическом сравнении, напр.: …Сегодня я чувствую себя хуже, чем вчера, но лучше, чем завтра… (ЛГ. 1319.07.2005) – нет оснований утверждать, что человек будет себя чувствовать завтра хуже. Паралогическое сравнение имеет место и в таком анекдоте: Жена подходит к мужу, сидящему за компьютером: – Дай я поиграю. – Имей совесть, дорогая, бери пример с меня. Я у тебя хоть раз тряпку попросил, когда ты полы моешь? (Телесемь. 15-21.10.2007). 430
Прием, не имеющий терминологического обозначения. Соответствующая ему ошибка (как немотивированное отклонение) называется «порочный круг». Одну из схем построения этого приема обозначила Е. В. Падучева: А, потому что А, напр.: – А почему вы здесь сидите совсем один? – спросила Алиса… – Потому, что со мной здесь никого нет! – крикнул в ответ Шалтай-Болтай («Шалтай-Болтай») [Падучева 1982: 91] – отклонение от формально-логической речеповеденческой нормы, основанное на операторе совмещения причины и следствия. Или другой пример «порочного круга» с использованием цепного повтора: Если вы ждете гостей и вдруг заметили на своем платье пятно, не огорчайтесь… Это поправимо. Например, пятна от растительного масла легко выводятся бензином. Пятна от бензина легко снимаются раствором щелочи. Пятна от щелочи исчезают от уксусной эссенции. Следы от уксусной эссенции надо потереть подсолнечным маслом. Ну, а как выводить пятна от подсолнечного масла, вы уже знаете… (Всем… 02.12.2005). Намеренное нарушение причинно-следственных отношений как прием (возможное наименование, предложенное А. А. Бернацкой, – прием «псевдопричина») наблюдаем в такой комической заметке: Если подойти к спящему человеку и изо всей силы гаркнуть ему на ухо «тринадцать!», то он тут же подскочит и начнет очумело озираться по сторонам. Это еще раз доказывает магическую природу загадочного числа (КК. 2002. № 38); Если судить по содержимому говяжьей колбасы, то выходит, что корова – это растение (Телесемь. 12-18.11.2007). Близок к апофазии прием перкурсии, заключающийся «в отсутствии логико-семантической мотивированности последующего высказывания предшествующим» [ЭСС 2005: 227]: Я… живу. Существую. Так же, как этот город. Просыпаюсь с рассветом. Прости... Ты? Порядок, мнение. Кто у кого должен просить прощения? Линии, нужны четкие линии-графики. Должно быть все по порядку. Рассвет близится. В поисках истины – зачем? (Ж. Сартр. Знаю, прощаю…).
431
Отклонения с оператором перестановки как типом переноса Паралогическим приемом считаем перестановку (мену местами) причинно-следственных отношений, как, например, в таком комическом высказывании: Камень, упавший в воду, всегда попадает в центр круга! (Телесемь. 15-21.10.2007) – круг возникает в результате падения камня в воду, но не наоборот.
3.3. Риторические отклонения от информационно-речевой нормы В. З. Санников выделяет три типа высказываний, отклоняющихся от постулата информативности: 1) недостаточно информативные высказывания; 2) излишне детализированные высказывания; 3) «пустые», неинформативные высказывания или элементы высказывания [Санников 1999: 386-390]. При их построении используются те же операторы, что и в отклонениях от норм других типов. Отклонения с операторами прибавления Сообщение важной, необходимой информации сопровождается излишней детализацией: Да только под носом у него нету никаких усов – одни губы! (Ю. Коваль. Приключения Васи Куролесова) – сообщается очевидная деталь. Если в предыдущем примере развертывание связано с излишней детализацией, то в следующем примере этот оператор приводит к нарушению постулата «Избегай ненужного многословия»: Едут в одном купе рабочий и интеллигент. Ну, интеллигенту неудобно ехать молча, и он пытается завязать разговор: – В наш век, в век космических скоростей и технического прогресса, каждая оптимистическая личность катастрофически отрицает абстракцию. Рабочий почесал затылок и отвечает: – Оно, конечно, оно действительно, что касательно, то относительно, и никогда не было так, чтобы что-нибудь и было, а случись оно что, вот тебе и пожалуйста (Всем… 30.09.2005). 432
Речь интеллигента не учитывает ситуацию и личность адресата, что мотивирует неинформативность высказывания рабочего. Реплики собеседников остаются неясными. В результате отклонение от постулата кооперации в семантическом пространстве текста вызывает комический эффект, на который и нацелен анекдот. Отклонением от информационно-речевой нормы можно считать совмещение в узком контексте высказываний, отрицающих друг друга и потому не привносящих в текст никакой новой информации: Он был артист драмы и комедии. И вот она в него влюбилась. Или она увидела его на подмостках сцены и он покорил ее великолепной игрой, или, наоборот, она игры его не видела, а он, может, просто понравился ей своей артистической внешностью, но только, в общем, она в него порядочно сильно влюбилась (М. Зощенко. Забавное приключение). К этой же группе отклонений от информационно-речевой нормы можно отнести объяснения очевидного, т.е. того, что читателю понятно, напр.: Как-то шел пустынной тропкой Средь неведомых равнин Очень тихий, очень робкий Беспартийный гражданин. Беспартийный – это значит, Он в рядах не состоит. В общем, так или иначе Он имеет бледный вид. И подумал наш бедняга: «Не туды я, ох, залез!» В это время из оврага Вышел член КПСС. Член, конечно, это значит – Он находится в рядах. В общем, так или иначе Бедный парень чует страх. (Б. С. Кузин). Это своего рода семантико-текстовой плеоназм.
433
Отклонения с операторами убавления Д. Болинджер в работе «Истина – проблема лингвистическая» отмечает, что с целью обмана адресат может эксплуатировать возможности синтаксиса, например опускать перформатив (ср.: Америка отстает от России по производству оружия и Я думаю, что Америка отстает) [Болинджер 1987: 33]. Причем исследователь пишет: «Следует заметить, что нередко опущение тех или иных элементов бывает вызвано не установкой на сокрытие истины, а слишком старательным следованием усвоенному из школьного курса правилу риторики, гласящему: если ты работаешь над письменным текстом, старайся ссылаться на себя как можно реже. Здесь пассивные конструкции с незаполненной агенсной позицией приходятся как нельзя более кстати» [там же: 33]. Поэтому опущение тех или иных элементов может расцениваться как прием301 только в случае сознательного нарушения информационно-речевой нормы с целью речевого воздействия на адресата. На усечении и пропуске строятся так называемые эллиптические сравнения. «Сравнительные прилагательные или наречия, – пишет Р. Харрис, – включают своего рода стандарт, с которым чтото сравнивается. Когда в рекламе просто говорится, что продукт дает больше, это утверждение выглядит довольно туманно, потому что мы не знаем, с чем его сравнивают ("больше, чем что?")»: Автомобиль «Нептун» даст тебе больше; Эти мюсли содержат больше витамина С; Порошок «Пуэр» лучше отстирывает [Харрис 2002: 144-145]; «…Полный комплекс кузовных работ. И все это по лучшим в России ценам (Радио Хит. 15.02.2002) (лучшие – это какие и в сравнении с чем?). Сокрытие информации в подтексте (намек): а) Четыре этапа человеческой жизни: еще нет; уже да; еще да; уже нет (Анекдоты от Михалыча. М., 2005); б) В купе едут мужчина и молодая женщина. Мужчина сидит и читает газету, на женщину ноль внимания. Наконец она не выдерживает: 301
Об этом приеме см. также [Быкова 1999: 18-20]. 434
– Почему Вы на меня не обращаете внимания? Я – молодая, красивая, в купе никого нет… Мужчина откладывает газету в сторону: – Я всегда говорил, что лучше полчаса потерпеть, чем три часа уговаривать… (СГ. 19.10.2002). Уважаемые Граждане! Слово «ПОСТ» на будке с милиционером указывает на рабочее место служителя народа и не имеет ничего общего с христианской традицией воздержания от водки, денег и прочих удовольствий (Всем… 02.12.2005). – Высказывание, следующее после обращения, завуалированно передает информацию Вы можете предлагать водку…, которая противоречит требованиям, предъявляемым к сотрудникам милиции. Кроме того, происходит обыгрывание неуместной тематики для жанра объявления. Отклонения с оператором замещения Замена слов на неинформативные (в плане содержания) элементы высказывания как средство пародирования речи человека, не владеющего культурно-речевыми нормами, представлена в стихотворении Э. Мошковской «Такая, в общем, история»: Жил-был Этот, как его. Ну, и значит, и того. Жило Это самое Со своею мамою. Был еще один чудак – Это, в общем, значит, так, И его любимый зять. Звали зятя Так сказать. А жену Звали Ну, А соседа Звали Это… А его родители – Видишь ли и видите ли… И еще какой-то Э-э-э 435
Жил на верхнем этаже… И дружили они все… Ну, и значит, и вообще… Полагаем, что именно на операторе замены (замещения) строится прием, который Т. Г. Винокур условно предлагает называть «эффектом уклончивых слов» [Винокур 1980: 71]. Средствами, обслуживающими этот прием, по наблюдениям Т. Г. Винокур, являются: а) местоименный класс слов с неопределенной семантикой (некоторый, какой-нибудь, кое-кто и пр.); б) лексические единицы, семантические особенности которых дают возможность их употребления в уклончиво-неопределенном смысле (в определенной степени, известный интерес представляет, иные школы и т.п.); в) лексические единицы типа немалую победу одержали (результат словообразовательного процесса с отрицанием); г) класс вводных модальных элементов предложения (…в различной, но все же вроде как бы полуформенной одежде) [там же: 72-73]. Отклонением от информативно-речевой нормы можно считать умалчивание, утаивание адресантом источника информации и способа ее получения. Способы такого утаивания разнообразны. Об использовании неопределенных местоимений и местоименных слов некоторый, кое-кто и т.п. как приеме манипулятивного воздействия пишет О. Н. Быкова. Этот прием она характеризует как «неопределенность, нереферентность при названии деятеля или действия»302 и приводит такие примеры: В отличие от некоторых юристов… Коекто считает… Один человек сказал… Был один случай… [Быкова 1999: 19]. В рамках этого приема она анализирует и употребление безличных предложений (Вопрос решается; необходимо улучшать, совершенствовать, повышать…), которые, с нашей точки зрения, строятся уже на другом операторе – операторе усечения (не сказано, кем решается и когда решится вопрос; неясно, что нужно улучшать, совершенствовать и т.д.). На операторе замещения основан прием, заключающийся в «обозначении социальной институции вместо указания на конкретных людей, о которых на самом деле идет речь» 302
Различные способы «дезавторизации сообщения», используемые говорящим / пишущим с целью сокрытия источника информации и сохранения видимости максимальной достоверности информации, описаны также в [Кормилицына 2007]. 436
[там же: 18]. Происходит перемещение «нормы бытовой сферы как нормы неопределенности» в сферу публичной коммуникации [Осетрова 2002: 85]. Но такое перемещение, по мнению Е. В. Осетровой, «…не должно оцениваться исключительно отрицательно как наступление на достоверность факта и ущемление интересов массовой аудитории» [там же: 89].
3.4. Риторические отклонения от стилистической и жанровой нормы Отклонения с оператором контаминации как типом совмещения Типичным случаем отклонения от стилистической (стилевой) нормы, основанным на операторе контаминации как типе совмещения, является прием, который называют «смешением стилей»303, напр.: Хотя Прометей украл у богов огонь, он был из очень приличной семьи. Отец – титан, мать – богиня правосудия. Прометей в анкетах так и писал: отец – титан, мать – юрист. В том, что он спер огонь, ничего страшного не было (ЛГ. 1117.08.2004) – в рамках одного текста используются синонимы разной окраски (нейтральное украл и просторечное спереть; нейтральное юрист и высокое богиня правосудия) с целью намека на В. Ф. Жириновского; «Это, кажется, я перехватил через край. Семь лет я обманываю эту дуру и даже не живу с ней. А в силу ее любви ко мне, я, кажется, закрываю ей доступ к интересам жизни» (М. Зощенко. Последний рассказ под лозунгом «Счастливый путь») – использование в узком контексте разговорных сочетаний (перехватил через край) и официально-деловых (канцелярских) оборотов (в силу ее 303
Термин общепринятый, но неудачный, поскольку происходит смешение не стилей, а языковых средств с разными стилистическими окрасками: «Стили как конструкты непроницаемы в силу из заданности, непроницаемы в силу категоризирующих и систематизирующих тенденций человеческого восприятия действительности. Однако реальные тексты сугубопроницаемы » [Скребнев 1975: 56]. 437
любви вм. из-за любви; закрываю доступ вм. не подпускаю) с целью речевой характеристики персонажа. На отклонении от жанровой нормы с целью пародирования при помощи контаминации книжно-литературной речи с разговорными и жаргонными элементами построена следующая заметка о конференции, написанная М. Ю. Федосюком и Н. А. Ипполитовой: На прошлой неделе в Московском универе прошла крутая тусовка о проблемах риторики и речевой коммуникации. Несмотря на то, что во многих конторах без мазы получить бабки на командировочные расходы невозможно, в Москву припорхали препы риторики и культуры речи из разных городов страны. В докладах тусовщиков прозвучала куча клевых приколов, которые по жизни заинтересовали слушателей и вызвали как классную дискуссию, так и отдельные наезды на докладчиков. Почти никто из выступавших в натуре не грузил аудиторию и не тормозил в ходе дискуссии. Участники тусовки тащились и торчали не только от докладов, но и от четкого трепа в кулуарах. В результате тусовки все привалившие в универ пришли к единодушному выводу о хреновом уровне речевой, блин, культуры наших соотечественников. Возникает противоречие между содержанием и формой выражения. Аномальные для жанра объявления концовка и извинения: Уважаемые жильцы! Во дворе вашего дома планируется произвести плановый капитальный ремонт теплотрассы. В связи с этим РЭУ-7 заранее приносит свои извинения за причиненные неудобства, а также за: · развороченный асфальт; · неогороженные канавы на детской площадке и вокруг магазина «Продукты»; · длительное отсутствие горячей воды;
· обнесение забором и охрану собаками и пьяным Василичем территории стройки, включая станцию метро; · да поможет вам Бог. Начальник РЭУ-7 (Анекдоты от Михалыча. М., 2005) – совмещение элементов разных жанров.
438
Отклонения с оператором замещения В одной из глав книги «Вас невозможно научить иностранному языку» Н. Замяткин использует слова, для понимания которых дает небольшой словарик, озаглавленный как «Импровизированный бифуркационный словарик для страдающих особо болезненным любопытством». Словарные статьи в нем строятся автором на замене научной дефиниции, обязательной в этом жанре, на неинформативные высказывания. Напр.: Бифуркация – знаю, поскольку недавно вычитал в одной толстой «умной» книжке, но из-за своей природной вредности не скажу! Сами ищите! Фискарист – понятия не имею. С объяснениями прошу не писать! Отмывка – как ни думаю, дальше шайки, полкá и березового веника с бадейкой кипучего кваса, ударяющего в носок, моя фантазия не распространяется. В специальный словарь не полезу – и не просите! Замещение позитивной информации на негативную, свойственную жанру проклятия, но не молитвы (жанровая подмена): А я вот схожу в церковь, поставлю свечку за ее здоровье, помолюсь: дай бог, чтоб ей муж достался пьяница, чтоб он ее колотил, чтоб он промотал и ее по миру пустил (Ф. Сологуб. Мелкий бес). На основе жанровой подмены строится такой комический диалог: – Ваш сын бросил нам в окно кирпич. – Пожалуйста, верните нам его, мы с мужем сохраняем все эти напоминания о милых шалостях нашего мальчика (Телесемь. 06-12.10.2008).
439
3.5. Риторические отклонения от ситуативно-речевой нормы Отклонения с оператором замещения К отклонениям от ситуативно-речевой нормы можно отнести так называемые «неадекватные высказывания», о которых пишет В. Г. Гак: «Чаще всего говорящий, желая скрыть свои переживания, начинает говорить "ни с того ни с сего" о погоде, о том, что он видит вокруг (деревья, животные и т.п.), о том, что случайно привлекло его внимание» [Гак 2004: 491]. «Неадекватные высказывания», как пишет исследователь, могут использоваться в качестве заполнителей молчания, «…поскольку отсутствие языкового общения между людьми выступает (в нашей цивилизации) как признак незнакомства или полной ссоры, нежелания общаться…» [там же: 492]. Эти высказывания В. Г. Гак рассматривает как одну из степеней «нулевого выражения», наряду с неполнотой высказывания (в разных вариантах), «красноречивым молчанием» и глоссолалией (речевым потоком, лишенным собственного смысла). В основе использования неадекватных выражений, думаем, лежит оператор замещения: «…смысл, который он [говорящий. – Г. К.] хотел выразить, остается не выраженным прямым способом и оказывается сокровенным смыслом» [там же: 489]; высказывания о чувствах, намерениях заменяются на высказывания о посторонних явлениях. По мнению В. Г. Гака, «неадекватные высказывания» являются «средством экстериоризации переживаний субъекта» [там же]. Ситуативная уместность предполагает, что речь соответствует коммуникативному событию: «…так, в ситуации неожиданной встречи на вокзале все зависит от того, каким временем располагают собеседники, в зависимости от этого будет уместен либо неспешный разговор (если им нужно скоротать время ожидания), либо краткий обмен новостями (если хотя бы один из них спешит на поезд)» [Матвеева 2003: 372]. От ситуации зависит социальная роль, выполнение которой ожидают от собеседника. Отклонение в поведении от этой роли обыгрывается в анекдотах (это было подмечено в [Санников 1999: 376]), напр.: Конферансье: 440
– Следующего артиста не нужно представлять. Я даже думаю, ему и выступать не нужно… (Телесемь. 30.07-05.08.2007) – первая реплика (…артиста не нужно представлять), содержащая утверждение («он всем хорошо известен»), истолковывается конферансье как отрицание (происходит подмена / замена смысла), которое подтверждается второй репликой, выражающей негативное отношение адресанта к артисту, что является нарушением исполняемой им социальной роли («отклонение от ролевой нормы» по [Долинин 1985: 60]); – Я – первый… Я – первый… Вызываю наземную службу. Высота 5000 метров. Горючее кончилось. Передайте инструкции… – Наземная служба… Первый… Первый, повторяй за мной: «Отче наш, иже еси на небеси…» (Анекдоты от Михалыча. М., 2005). Ситуативно-речевая норма предполагает обязательную ориентацию на адресата: его психологическое состояние, уровень образования и т.д. Отклонение от этого требования может привести к коммуникативной неудаче, которая обыгрывается как прием построения следующего анекдота: – Петра Иваныча-то нашего этта в Москву вызывали. Триппером его там, слышь, наградили. – И-и, милая, – все едино пропьет!.. (Р. Белов. Астафьевские анекдоты) – первый собеседник не учитывает возможной неосведомленности адресата в медицинских терминах (не разъясняет их), в результате чего негативно-оценочное сочетание наградили триппером с глаголом в переносном значении («наделить чем-н.», ср. наделить талантами) воспринимается адресатом в значении «дать что-н. в награду за что-н.» и влечет за собой комическую реплику. Отклонение от ситуативно-речевой нормы может быть вызвано неправильным прочтением намерения собеседника: – Гиви, у нас несчастье! Дедушка полез на дерево собирать груши и упал. В общем, мы его потеряли. – Вах, как это потеряли? А под деревом смотрели? (Телесемь. 17-23.07.2006) – неверное прочтение намерения собеседника связано с многозначностью глагола «потерять», который в данной ситуации означает «лишиться человека по причине его смерти» (происходит подмена понятия). Глядя, как мама примеряет новую шубу из натурального меха, Вовочка заметил: 441
– Мама, а ты понимаешь, что эта шуба – результат ужасных страданий бедного несчастного животного? Мама посмотрела на Вовочку строго и ответила: – Как ты можешь так говорить о родном отце?! (Всем… 30.09.2005) – реплика матери свидетельствует о ее недостаточно уважительном отношении к своему мужу, которому она имплицитно приписывает эпитет «животное», отсюда ситуативно неуместный ответ сыну (разумеется, что в анекдоте как жанре эта неуместность запланирована). Отклонения с операторами совмещения Отклонение от ситуативно-речевой нормы может быть связано с пропуском необходимых этикетных формул, например, приветствия и представления себя, в результате чего происходит совмещение высказываний, вызывающих обманутое ожидание: На улице к мужчине подходит милая женщина: – Мне кажется, вы – отец одного из моих детей… Мужчина с ужасом: – Я?! – Успокойтесь, – отвечает женщина, я – учительница (Телесемь. 13-19.08.2007) – неверное понимание мужчиной намерения женщины связано с несоблюдением с ее стороны роли, в соответствии с которой в начале разговора необходимо представиться и уже только потом вести разговор об учащихся. Возможно «расхождение между высказыванием и предметноситуативным фоном» [Долинин 1985: 61], напр.: Муж очень поздно возвращается домой. Открывает дверь, перед ним стоит жена, в руке сковородка. Муж: – Иди ложись спать, я не голодный… (Телесемь. 19-25.11.2007) – высказывание мужа расходится с ситуацией, в которой жена держит сковородку не для того, чтобы кормить мужа. Прием построен при помощи оператора аттракции на основе противоречия.
442
3.6. Риторические отклонения от повествовательной нормы «"Фигуры" повествовательного дискурса»304 [Зенкин 1998: 20] выявляются исследователями на основе анализа отношения текста к реальности – «…точнее, к той подразумеваемой "истории" (реальной или вымышленной, но логически предшествующей повествованию), которая в нем рассказывается, и к акту повествовательного высказывания – "наррации", которым это повествование порождается». При отклонении от подразумеваемой истории «…речь идет всякий раз о деформации некоего "нормального", "нулевого" строя повествования, когда, например, повествование забегает вперед или возвращается назад (пролепсисы и аналепсисы), ускоряется либо замедляется по отношению к реальной истории (анизохрония) или представляет реально единовременные события как повторяющиеся (псевдоитератив)…». Отклонением от наррации может быть «ступенчатая конструкция вставных (метадиегетических) рассказов» [там же: 18]. Нельзя сказать, что «фигуры» повествовательного дискурса являются неизученными. «Аномалии наррации» (разного рода нарушения в субъектной организации текста) Т. Б. Радбиль рассматривает как тип «текстовых аномалий», являющихся отклонениями от общих принципов текстопорождения [Радбиль 2005: 58]. Жерар Женетт пишет о временнóм пролепсисе (антиципации) как одной из «нарративных фигур», заключающейся в том, что повествование начинается с краткого изложения будущих событий (например, в «Илиаде», «Одиссее» и «Энеиде») – «интрига предопределения», по Тодорову; о временнóм эллипсисе (пропусках во времени истории) у Пруста и других приемах [Женетт 1998б: 100-135]. «Нулевой ступенью» при описании отклонений от композиционной (повествовательной в узком смысле) нормы для исследователей служит естественный хронологический порядок (от экспозиции и завязки последующих событий). Поэтому в «Энеиде» (произведение начинается с середины странствий Энея, а предшествующие события излагаются позже) мы имеем «отклонение сюжетной последовательности изложения от фабульной последовательности событий» [Гаспаров 1997: 619].
304
Термин «фигуры» в этом сочетании используют широко (как любое отклонение). 443
Показательно, что при анализе «фигур повествовательного дискурса», или «фигур повествования»305, исследователями используются традиционные термины риторики (антиципация, эллипсис, силлепсис и др.). Думается, это объясняется тем, что механизм действия одного и того же приема в микро- и макроконтексте идентичен. Другими словами, «фигуры» повествовательного дискурса основаны на тех же принципах, что и отклонения от языковых норм. Отклонения с операторами прибавления Лирическое отступление – «…композиционно-стилистический прием в художественной прозе и главным образом в поэзии, заключающийся в том, что автор отклоняется от прямого сюжетного повествования, перебивая его лирическими вставками на темы, мало связанные или совсем не связанные с магистральной темой» [Квятковский 1998: 170]. Тем самым лирическое отступление – прием, основанный на операторе вставки. В качестве примера этого приема приведем отрывок из рассказа Э. Русакова «Валерик»: А он [Валерик. – Г. К.] – заразился от меня любовью к живописи, и от этого я привязался к нему еще больше. Тут, казалось бы, пора ставить точку и завершить мой рассказ на оптимистической ноте. Но хэппи-энд бывает только в кино, впрочем, даже в кино жанры различаются глубиной погружения в реальность. Там, где поверхностный и сентиментальный взгляд видит сладкую мелодраму, глаз более зоркий может разглядеть трагедию. А еще очень многое зависит от временных рамок. Так, обычно сказки (в том числе и сказки для взрослых) заканчиваются свадьбой, но в реальной-то жизни со свадьбы лишь начинается настоящая история. Так и в нашей с Валериком жизни главные испытания ждали впереди.
305
В «Общей риторике» Ж. Дюбуа и др. повествование и повествовательный дискурс разграничиваются. Ср. название параграфов: «Фигуры формы выражения: повествовательный дискурс» и «Фигуры формы содержания: повествование» [Дюбуа и др. 1986: 306, 332]. 444
Оператор наложения лежит в основе контаминации разных текстов, напр.: Я друга от души поздравил, Что он до пенсии дожил, Дружок мой – самых честных правил И горб рабочий – заслужил. И если крикнет рать святая, Поэта зазывая в рай, Я прохриплю: «Не надо рая…», А друг поддакнет: «Наливай!» (С. Хомутов. В бреду реальности). Или: Мой дядя самых честных правил И завсегдатай синагог Мечтал о выезде в Израиль, Но визу получить не мог (Б. Кузин). Традиционную норму представляют конструкции с прямой речью с эксплицитно выраженными обеими частями: репрезентирующей, вводящей частью, авторской ремаркой и репрезентируемой частью, прямой речью. Ситуативное же употребление неполной, безрамочной, эллиптической конструкции, по замечанию Е. А. Покровской, является стилистически значимым: «Пропуск ремарки является структурно значимым, подобно тому как в неполном предложении структурно значимо отсутствие его обязательного члена» [Покровская 1992: 116], напр.: В этот момент она увидела фонарик. Он быстро приближался, как будто это была фара мотоцикла – но без шума. Опять глюки. Да что же это такое! Таня замерла на месте (Л. Петрушевская. Глюк). Ср.: Она подумала: «Опять глюки. Да что же это такое!». Такие неполные конструкции Е. А. Покровская рассматривает как эллипсис на сверхфразовом уровне, как «…эллиптическую фигуру речи, поскольку в ее основе лежит грамматическая неполнота, нарушение синтаксических связей (двустороннего подчинения) и сама она является ярким выразительным средством» [там же: 122]. Эллипсис репрезентирующей части (ремарки) приводит к наложению, формальному неразграничению (смешению) слов повествователя и слов героя – «самый "популярный" в современной литературе вид нарративных аномалий» [Радбиль 2005: 60], напр.: 445
На этот раз, под утро, был какой-то сон, но он всплыл как-то не сразу и омрачил Гулино праздничное настроение. Сон был бессюжетен. Ощущение чужой власти, замкнутого пространства. И грубой, грубейшей фактуры. Прочь, прочь, не хочу вспоминать! Сукно на столе… Капитан Утенков, с гнуснейшей бранью, нежно направленной в ухо… И пошел… и пошел… Смерд… Хам… Спас. Прочь пошел! Не хочу! Но сон уже вырвался на поверхность и вспоминался против воли (Л. Улицкая. Гуля). В рассказе Д. Хармса «Как Петров картошку покупал» используется прием, который мы условно назовем приемом излишней детализации306, приводящий к недостаточной информативности текста (доминирующим является повествование о том, как Петров отправился покупать картошку, а не описание ситуации необычной покупки, которого в соответствии с заглавием ожидает читатель, что можно считать отклонением от норм повествования): Вот однажды один человек, по фамилии Петров, надел валенки и пошел покупать картошку. А за ним следом наш художник Трехкопейкин пошел. Идет художник за Петровым и его ноги на бумажку зарисовывает. Вот Петров по улице идет и на собак смотрит. Вот увидел Петров: трамвай идет. На ходу садиться нельзя, и он побежал к трамвайной остановке. Вот Петров бегом к трамвайной остановке бежит. Вот Петров вошел в трамвай, купил себе билет и сел на скамейку. А вот он в трамвае на скамейке сидит. А вот он из трамвая вылез и даже танцевать начал: «Эх, – кричит, – хорошо прокатился!»
306
Передачу информации, которую следовало бы пропустить, Жерар Женетт обозначает термином паралепсис. Для случаев сообщения меньшей по объему информации, чем в принципе необходимо, он использует термин паралипсис. В качестве родового для названных приемов исследователь использует термин альтерации [Женетт 1998б: 210]. 446
А вот он увидел ларек, в котором картошку продают, обрадовался, купил картошку и понес ее домой. Шел, шел и вдруг поскользнулся и упал. Хорошо еще, что всю картошку не рассыпал! Вот Петров стоит и художнику Трехкопейкину говорит: «Я, – говорит, – картошку больше капусты люблю. Я ее с подсолнечным маслом ем». Повествование осуществляется отдельными «кадрами» без использования монтажа. Отклонения с операторами убавления Отклонением от повествовательной нормы является наличие в произведении зачина и/или кульминации с усечением остальных частей. В сборнике «Школа ужасов» Г. Остера читаем: В подвале одной школы жило огромное чудовище. Никто про это не знал. Только директор школы подозревал неладное. Но никому не говорил. Директор собирался делать в школе ремонт и опасался, что строители, узнав про чудовище, не захотят ремонтировать школу. Однажды вечером, когда все ученики и учителя ушли из школы, директор взял электрический фонарик и стал спускаться в подвал. – Остальная часть рассказа «Чудовищный ремонт» опущена, что на фоне большинства остальных рассказов этого сборника является отклонением. Читателю предлагается дописать рассказ самому. В конце рассказа В. Пелевина «Жизнь и приключения сарая номер ХII» повествуется о том, как завхоз после пожара и составления акта со страхом шла домой: смотрела, не увязался ли кто следом, пряталась за деревом, видела летящий велосипед из досок. После рассказ заканчивается такими словами: «Придя в себя, завхоз заметила, что сидит на середине дороги. Она встала, отряхнулась и, совсем позабыв… Впрочем, Бог с ней». Отклонения с операторами переноса На отклонении от обычной линейной последовательности элементов текста (ср. в предыдущей главе речь шла об антиципации на уровне предложения как отклонении от нейтральной синтаксической 447
нормы) при операторе перестановки основан прием антиципации, при котором предвосхищающий (антиципирующий) компонент находится до прямого обозначения объекта (причем в самом начале текста), о котором идет речь. Антиципация как композиционный прием с целью создания эффекта обманутого ожидания представлена, например, в следующих стихотворениях: Шляпу я перед нею снимаю! А за шляпою шарф и пальто, Брюки, майку, трусы…Забываю Где? Зачем я? Откуда и кто? Я вхожу в нее – жар ощущаю И в животном экстазе скулю… С легким паром себя поздравляю – баню русскую шибко люблю! (С. Светланин. Любимой // ЛГ. 21-27.01.2004); За что Вы мне, доверчивой, достались?! Наверное, подосланы судьбой, И эта стерва, злобно усмехаясь, Взялась поиздеваться надо мной. Мои друзья, нисколько не таясь, Честят Вас неприличными словами. И правы. Вас все время тянет в грязь, И я туда же – вместе с Вами! Вы подло поджидаете потом, Чтоб подвернуться в самый страшный случай… И я опять лежу в пыли лицом. Вы… Кто позволил Вам меня так мучить?! Молчала долго (трусость да заминки). Теперь хочу признаться не боясь, Что я не просто презираю Вас, Я ненавижу Вас, Мои Ботинки! (Д. Уланова. Признание в ненависти). Отклонения с оператором замещения Отклонением от повествовательной нормы, очевидно, можно считать текстовую замену последовательности фраз звуками и звукоподражаниями: 448
Как ловкий бегемот гонялся за нахальной мухой в тесной комнате, где было много стеклянной посуды (НЕмножко НЕобычное НЕстихотворение) ж жжж жжжжжжжж жжжжж жжжжжжжжжжжжж Бац! жжжж ж… ж… жжжжжжжжжжжжжжжжж Бац! бац! Жжжжжж Бац! бум! дзинь! Жжжжжж топ. Жжжж топ-топ. Жжжжжжжж топ-топ-топ жжжжжжжжжжжжж шлеп! ……. шмяк. И стало тихо (Все наоборот: Небылицы и нелепицы в стихах / Сост. Г. М. Кружков. М., 1993). На смене повествовательного плана основана аллегория (синонимы: иносказание, парабола [Филиппов, Романова 2002: 99], пермутация, иноречие, инословие [Москвин 2006а: 50-51]) 307, кото307
Иногда в качестве синонимичного аллегории дают понятие символа (см., напр., [Матвеева 2003: 14]). Однако символ соотносится со смыслом «нацело», а аллегория – «почленно» [Хазагеров 1997: 12]. Этот критерий разграничения символа и аллегории кажется нам «работающим», в отличие от критерия однозначности у аллегории и многозначности у символа, о котором пишет А. П. Квятковский. Так, стихотворения «Анчар» и «Три ключа» А. С. Пушкина, «Парус», «Три пальмы» М. Ю. Лермонтова, по мнению А. П. Квятковского, символичны [Квятковский 1998: 307], с точки зрения 449
рую обычно рассматривают среди тропов метафорической группы. В старинных русских риториках аллегория определялась, с одной стороны, как целое предложение или речь, состоящая из метафор (или стальной щетиною сверкая, не встанет Русская земля? [Зеленецкий 1849: 38]), или как метафора, распространяемая на отдельные части периода [Теория красноречия… 1830: 42-43], с другой – как явление не обязательно метафорического плана: аллегория «переноситъ не слово, а цѣлую мысль» либо по подобии, как метафора, либо по отношениям, как метонимия [Кошанский 1844: 90]. Современные определения аллегории часто строятся по типу «порочного круга». Напр.: «…т р о п, заключающийся в иносказательном изображении отвлеченного понятия или мысли при помощи конкретного, жизненного образа» [ЭК 2005: 375] – понятие аллегории объясняется через понятие иносказательного изображения, которое само нуждается в определении и часто используется как синонимическое308. В некоторых определениях отражаются структурные особенности аллегории. Так, Г. Г. Хазагеров считает, что аллегория есть развернутая метафора [Хазагеров 1997: 12-13]. Такая же точка зрения у В. П. Москвина: аллегория – это «многочленная развернутая метафора-загадка… служащая формой косвенного дидактического пояснения» [Москвин 2006а: 50-51]. Действительно, аллегория, как правило, основана на развернутой метафоре, но она не всегда дидактична. Сравним следующие три текста: Л. Е. Туминой – аллегоричны [ЭК 2005: 376]. В соответствии с этим весы – символ правосудия, сердце – символ любви, белый голубь – символ мира. Критериями идентификации знака как символа считают также конгломерат значений и расплывчатость их границ, иконичность, архетипичность знака, его универсальность в отдельно взятой культуре, встроенность в миф и архетип [Маслова 2000]. Символ – не РП, это явление другого порядка. Аллегорию с символическим истолкованием называют вслед за Г. Г. Кемпером «аллегорической аллегорезой» [Гуревич 1999: 25]. 308 Аллегория и иносказание даны как синонимы в [Ахманова 2004: 39; Квятковский 1998: 19] и др.; аллегория как одна из форм иносказания рассматривается в [Розенталь, Теленкова 2001: 19]. Нам близка вторая точка зрения, поскольку иносказание можно определить как любой способ косвенного (непрямого) выражения мысли. 450
1. И, не отказываясь от сатиры, решили мы с этого момента слегка, что ли, переменить курс нашего литературного корабля. И даже въезжая, как видите, в столь ответственную гавань, носящую грозное название «Коварство», решили мы уже и на этот раз попробовать свои силы не в качестве желчного сатирика прежней формации, из таких, которые заламывают руки, стыдят и восклицают, а решили мы попробовать себя в качестве ну вроде бы члена коллегии защитников. Итак, значит, произнося на палубе нашего корабля подобные эффектные речи, пытаемся мы тем временем въехать в обширную и плохо защищенную гавань. Но бурные воды всевозможных течений, вдребезги разбившие берег, не разрешают нам с легкостью это произнести. И, желая тогда переждать некоторое время, чтоб обдумать, как бы полегче к этому подойти, – останавливаемся мы на рейде и не без растерянности поглядываем на берега, на которых уже, подмигивая, прохаживаются всякого рода проходимцы… (М. Зощенко. Голубая книга). Перед нами так называемая «смешанная» аллегория309, построенная на развернутой метафоре, в которой под кораблем подразумевается литературное повествование, под гаванью – его тема, под течениями – факторы, не позволяющие прямо и сразу приступить к изложению, под рейдом – остановка-размышление перед дальнейшим повествованием. 2. В повести «Лжизнь» В. Монахов описывает жизнь человека, мечтающего стать писателем и на первый взгляд благополучного (работа, жена, дети), но замкнутого в себе, своих сновидениях, живущего миром иллюзий и тем произведением-автобиографией, которую он пишет. Этот человек однажды понимает, что не живет, как все, реальной жизнью, и не жил ею. Всю свою жизнь со дня рождения он оценивает как жизнь «мертвого» человека, и вот как описывает свое пробуждение: 309
Издавна в риторике разграничивают «чистую аллегорию», когда все слова употребляют в переносном значении, и смешанную, в которой есть слова, используемые в собственном значении [Кошанский 1844: 90; Рижский 1809: 42; Ломоносов 1952: 250]. 451
« А когда я скончался, то, рассматривая меня в гробу, все воскликнули: «Как живой!». А я действительно ожил, потому что родившиеся мертвыми не умирают, а оживают. Я впервые глядел на мир из гроба и поражался его краскам, что раньше было не доступно. Все стоящие вокруг гроба видели, что я ожил, и перешептывались друг с другом, не веря своим глазам. Но пришли другие мертвецы и потащили меня на кладбище, где закопали в теплую землю. – Вот еще живой! – радостно встретил Петр у райских ворот. – Очень хорошо! – обрадовался Господь. – Наконец-то опять повезло и у нас с жизнью. – Господи, отпусти меня жить, – взмолился я. – Поздно! – был непреклонен Бог. – Так давно не приходили к нам живые… – О, Господи, как остро чувствуешь жизнь в первые минуты смерти! – Понимаю, – посочувствовал Бог и, взяв меня за руку, повел за собой. – Вживайся! И я вживался. Вживался рядом с ней, хотя она не имела ни имени, ни отчества, ни лица, ни тела…» Герой пытается снова жить, но даже собственная жена для него как бы не существует реально. Аллегорическое описание, основанное на метафорах (ожил – «осознал», мертвецы – «поглощенные собою люди», вживался – «привыкал к нормальной жизни»), «перерастает» в описание, основанное на «виртуальном отклонении» (встречу с Господом). 3. – А вот и я! – сказала Проблема, совершенно неожиданно выглянув из кустов. – Вот это Проблема так Проблема! – зашептались Граждане. – Не вижу никакой Проблемы, – имитируя уверенность, сказало Правительство. Проблема обиженно надулась. – О вот теперь видим раздутую Проблему! – сказало Правительство. Проблема сжала челюсти и сузила глаза. – Вообще-то, это опасная Проблема! – сказало Правительство. 452
– Может, по ней шандарахнуть? – предложила Силовая структура. Правительство, проявив политическую дальнозоркость, отрицательно покачало головой. Проблема, чувствуя безнадежность своего положения, отвернулась от Правительства. – Похоже, Проблема может подождать, – успокоилось Правительство. Проблема, желая привлечь к себе внимание, нарядилась в модную одежду. – Однако это красивая Проблема! – восхитилось Правительство. Проблема, поняв, что решать ее никто не собирается, начала громко кричать. – Какая кричащая Проблема, пожалуй, пора ею заняться, – сказало Правительство. Проблему не без труда запихнули в кувшин, заткнули пробкой и поставили на склад. – Это что за кувшинчики? – через много лет спросило Правительство. – Ну-ка откройте несколько штук, посмотрим, что в них такое? (В. Михайлов. Проблемы и правительство // ЛГ. 2430.03.2004). В основе дидактической аллегории, на которой построен текст, лежит прием наделения абстрактных понятий (Проблема, Власть, Силовая структура) свойствами человека – олицетворение, а также «обновления метафоры», когда устойчивая метафора вновь «оживает» (раздутая Проблема, кричащая Проблема). Определение аллегории как протяженной (развернутой) метафоры ценно, по мнению Цв. Тодорова, тем, что указывает на способ выявления аллегории. Но это, как мы увидели, не обязательно развернутая метафора. «Об аллегории можно говорить только тогда, когда в самом тексте содержатся эксплицитные указания на нее. В противном случае перед нами обычное читательское толкование; в этом смысле не существует литературного текста, который не был бы аллегорическим, ибо литературному произведению свойственно служить предметом бесконечных истолкований и перетолкований» [Тодоров 1999: 65]. Аллегория – это особый способ текстообразования, состоящий в отображении отвлеченной мысли в конкретном об453
разе при помощи различных приемов, позволяющих ее увидеть и осмыслить.
3.7. Риторические отклонения от этико- и эстетико-речевой нормы Этико-речевые и эстетико-речевые нормы, обладая относительной самостоятельностью, тесно связаны друг с другом, поскольку в их основу положены ценностные категории: добро, долг, совесть, честность, искренность, благожелательность, уважительность к собеседнику, справедливость, ответственность и др., – а неоправданные отклонения от этико-речевой нормы являются нарушением риторического идеала, основанного на категории прекрасного. Вопрос о прагматической мотивированности некоторых отклонений от этих норм является не бесспорным. Н. Б. Мечковская пишет, что эстетические оценки языка / речи (имеющие отношение к форме высказывания, а не к его содержанию или эмоциональномодальному плану), как и все эстетические оценки, «…интуитивны и субъективны, поэтому слабо поддаются анализу» [Мечковская 2004: 354] и «наименее доказуемы» [там же: 357]. «Отрицательные эмоциональные оценки, – пишет исследователь, – имеют место при таком переживании феноменов языка, о котором говорят: ему не нравится (это выражение), ему противно, его коробит» [там же: 355356]. Так, приведенный ниже текст содержит слова, которые (несмотря на антистекон) нам неприятны, поскольку обсценны, но в то же время текст носит комический характер, а комизм – «феномен эстетического порядка», вызывающий удовольствие от узнавания слов [там же: 360]. Поэтому констатация речевого факта как отклонения от эстетико-речевой нормы, очевидно, не всегда бесспорна. При встрече раз сказал Бетховен Баху, Что дал он непростительного маху В какой-то, не припомню, из кантат. На это Бах ему: – Послушай, брат, Ведь я пишу, как всем известно, фуги, Не всякие там буги-вуги, И в этом деле съел собаку я, А ты не смыслишь в фугах ни фуя, 454
И я б тебе советовал, Бетховен, Поменьше сочинять своих фуевин, Которыми смешишь ты только кур. Ты б лучше гамму разучил це-дур. – Бетховен страсть обиделся на это, Но против Бахова авторитета, Конечно, он никак не мог идти, А только думал: «Мать его ети» (Б. С. Кузин. Бах и Бетховен // Вопросы литературы. 2002. № 3). «…Не все объекты, соответствующие норме, способны вызвать эстетическое чувство» [Арутюнова 2004: 22]. Так, отдельным литературным направлениям свойственна «установка на "некрасивость", "ущербность", принципиальная натуралистичность в изображении разного рода отходов человеческой жизнедеятельности, неприятных на вид, на вкус и на запах людей, предметов, веществ и явлений» [Радбиль 2006: 153]. В качестве примера «эстетизации безобразного» приведем отрывок из рассказа В. Сорокина «Сергей Андреевич»: Небольшая кучка кала лежала в траве, маслянисто поблескивая. Соколов приблизил к ней свое лицо. От кала сильно пахло. Он взял одну из слипшихся колбасок. Она была теплой и мягкой. Он поцеловал ее и стал быстро есть, жадно откусывая, мажа губы и пальцы. Снова где-то далеко закричала ночная птица. Соколов взял две оставшиеся колбаски и, попеременно откусывая то от одной, то от другой, быстро съел. Отклонения от этико-речевой и эстетико-речевой нормы осуществляются при помощи тех же операторов, что и отклонения других типов. Проиллюстрируем это на примере действия операторов прибавления и замещения. Отклонения с операторами прибавления – Мы слыхали, что вы знаете все. – Да, я знаю все, – сказал профессор Трубочкин. – Я умею управлять мотоциклом, автомобилем, аэропланом, пароходом, паровозом, трактором, трамваем и подводной лодкой. Я умею говорить по-русски, по-немецки, по-французски, по-английски, потурецки, по-самоедски и по-фистольски. Я умею писать стихи и 455
рассказы, читать книжку, держа ее вверх ногами, писать и рисовать левой рукой, печатать на пишущей машинке, чинить электричество, видеть в темноте, плавать, ходить на руках, стоять на одной ноге, нырять под воду, прыгать через веревочку и даже показывать фокусы (Д. Хармс. Профессор Трубочкин) – амплификация, основанная на операторе развертывания и являющаяся в данном случае отклонением от максимы скромности и максимы качества (постулата истинности). Отклонения с оператором замещения Отклонения от этико-речевой нормы как совокупности правил речевого общения (поведения), обеспечивающих гармонизацию интересов общающихся на основе общепринятых нравственных ценностей, осуществляются, как правило, с целью создания комического эффекта или в художественных текстах с целью речевой характеристики персонажа. – Я буду жаловаться! Официант, книгу жалоб! – Ну да! Сейчас! Не в библиотеке! (Телесемь. 30.0705.08.2007) – отклонение от максимы такта (речевой жанр не соответствует роли; жанровое замещение). Утро. Звонок в дверь. Сонный муж открывает. На пороге – приехавшая с вокзала теща с двумя чемоданами. Немая сцена. Потом муж оборачивается и кричит в комнату: – Зин, вставай, помоги с чемоданами. Тут мама уезжает! (Listok. 17.01.2005) – отклонение от максимы такта и максимы великодушия. Отклонением от эстетико-речевой нормы как РП можно, пожалуй, считать использование дисфемизмов (оператор замещения; отклонение от эстетической категории изящного) с целью характеристики речи персонажа, выражения отношения к событиям, создания комического эффекта и т.д., напр.: Пирог с капустой, пирог с маминым вареньем, салат картофельный, яйца с луком, свекла тертая с майонезом, немного сыра и колбасы – сожрут и так (Л. Петрушевская. Свой круг) – ср. нейтральное: съедят и так; Вот где свобода так свобода! Подыхайте, бюджетники, без зарплаты, ветераны – без пенсий… (Завтра. 1999. № 12) – ср.: помирайте. 456
3.8. Риторические отклонения от предметно-логической нормы, или виртуальные отклонения от онтологических норм «Виртуальными», или ирреальными, А. П. Сковородников называет отклонения от онтологической нормы, представленные в том или ином тексте дескриптивно (в описании), то есть отклонения воображаемые [Сковородников 2007: 41б]. Осуществляя в дескрипции отклонение от той или иной онтологической нормы, мы тем самым отклоняемся от качества предметной логичности речи, или от речевой предметно-логической нормы. Другими словами, приемы этой группы лежат на пересечении двух типов отклонений – реального и виртуального. Понятие «виртуального отклонения» пересекается с понятием «виртуальная реальность», используемым в литературоведческих работах. «Виртуальная реальность» – «…это в о о б р а ж а е м ы й мир. В нашем сознании он существует на равных с миром абсолютно материально-предметным » [Лейдерман 2005: 36]. В художественном тексте «создаваемая посредством слова "виртуальная реальность" конструируется как образ мира ("сокращенная Вселенная"), т.е. как модель мироустройства», поэтому художественный текст обладает свойством мифологичности [там же: 37]. Этот образ мира может быть максимально приближен к реальному (правдоподобен310), а может, наоборот, значительно с ним расходиться, то есть быть в той или иной степени неправдоподобным. Приемы неправдоподобия и являются «виртуальными» отклонениями от той или иной нормы. Причем они характерны не только для художественной речи. В последнее время отклонения «виртуального» типа широко представлены и в газетной публицистике, где они служат средством выражения непрямой (косвенной) оценки действительности, реализуя 310
Об истории понятия правдоподобие см. [Смирнов 2003]. Интересно наблюдение М. Л. Гаспарова о том, что понятие «правдоподобие» в античности было употребительно больше в риторике, чем в поэтике, и что оно не выдвигалось в центр системы литературных средств. Затем проблема правдоподобия и правды, остро стоявшая для Аристотеля, «…выпала из области филологии и оставалась достоянием философии: ни комментаторской поэтике, ни прагматической риторике это было не интересно, это не вело ни к фигуре автора, ни к системе стиля» [Гаспаров 1997: 552]. 457
тем самым оценочность как одну из основных черт газетнопублицистического стиля. Напр., автор статьи «Голые в городе» Л. Григорьева, обращая наше внимание на факт повсеместного распространения различного рода информации с изображением обнаженных людей, пишет: Здесь-то, в «Европах», у меня и накопился некий опыт преодоления ситуации, когда голые тела набегают на тебя со всех сторон, выныривают из-за каждого угла, гонятся за автобусами и машинами (ЛГ. 28.06.2004). Автор употребляет метонимическую гиперболу, с помощью которой выражает негативную оценку обозначенному факту. В литературоведческих работах используется терминопонятие жизненного правдоподобия (см., напр.: [Лужановский 1987: 138; Чернышева 1985: 60]), или жизнеподобия, которое, по мнению Н. П. Еланского, не нуждается в определении, благодаря ясности и точности содержания этого термина: подобие ж и з н и, р е а л ь н ос т и…» [Еланский 1980: 10]. Эти термины употребляются для обозначения особой художественной системы («изображения жизни в формах самой жизни»), противопоставленной системе вторичной условности, которой «свойственно явное, намеренное нарушение правдоподобия в изображении объектов действительности с переходом границ возможного или нарушение реальных либо логических отношений между ними» [там же: 14]. К формам (приемам) вторичной условности литературоведы относят аллегорию, произвольные пространственные и временные смещения, гротеск, «мотив превращения», «овеществление метафоры», прием «намеренного игнорирования чуда», «очеловечивание героев» и некоторые другие. Таким образом, понятие виртуального отклонения от онтологической нормы оказывается связанным (смежным) с такими понятиями, как «виртуальная реальность», «жизненное правдоподобие» («жизнеподобие»), «вторичная условность». Виртуальные отклонения от онтологической нормы являются приемами создания «вторичной условности» (если под ней понимать систему неправдоподобного изображения объектов и явлений действительности), и в этом отношении они противопоставлены приемам правдоподобного описания, о которых пишет, в частности, А. А. Бурцев [Бурцев 1988]. Однако виртуальные отклонения от онтологических норм (или вымыслы в их понимании М. В. Ломоносовым) – лишь одно из средств создания «виртуальной реальности» в том смысле, который вкладывает в это понятие Н. Лейдерман. 458
«Виртуальные отклонения» могут сопровождаться прагматически мотивированным отклонением от собственно языковой нормы. В таких случаях мы наблюдаем синкретизм приемов. Например, в следующем высказывании используется метафорическое олицетворение (один из приемов неправдоподобного описания): Башня росла, стучала о небо золотой головой, скребла его алмазными когтями, питаемая слезами и кровью народов… (Завтра. 2001. № 38). На факты «виртуального» отклонения обращали внимание не только в литературоведении, но и в лингвистике, однако, как правило, не в связи с проблемой классификации выразительных средств языка. Их называли отклонением от «норм психического абсолюта» [Болотов 1985: 41], «отходом от стереотипа жизни», «отклонением от среднестатистического стандарта» [Арутюнова 1981: 81], «приемами нарочито неправдоподобного описания» [Москвин 2000: 44], металогизмами [Дюбуа и др. 1986: 241]. Термин «металогизм» представители Льежской школы, хотя и определяют как отклонение от «нормы языка правдивого описания и зеркального отражения истины», понимают широко. Они пишут, что «нулевая ступень» металогизмов «…связана не столько с критериями лингвистической правильности, сколько с представлениями о логической стройности изложения фактов, или логичности хода рассуждения» [там же: 67]. Тем самым понятие металогизма оказывается в концепции исследователей объединяющим для отклонений от законов формальной логики и отклонений от так называемой «логики вещей». В работах по лингвистической семантике среди ложных (не соответствующих фактам) предложений выделяют предложения «аналитически ложные» и предложения «синтетически ложные». «Аналитически ложными» называют предложения, ложность которых не зависит от того, каково положение дел в том или ином мире (реальном или возможном); «синтетически ложными» – предложения, ложность которых зависит от устройства мира. Ср.: Муж Ирины – холостяк и Великий русский поэт А. С. Пушкин родился в Твери. В последнем случае предложение не нарушает наших представлений о том, что могло бы быть в мире, если бы развитие событий пошло по какому-то иному пути, чем это было на самом деле [Кобозева 2000: 201-203]. Поэтому отклонения от наших представлений о мире могут быть разной степени вероятности. Литературное описание явления или факта, не имеющего референта в реальности и обладающего «нулевой вероятностью», именуется симулякром [Можейко 2001]. 459
Интересующие нас отклонения в лингвистике обозначены также как «нарушения эмпирических пресуппозиций». При этом под эмпирическими пресуппозициями понимаются «…отношения, базирующиеся на эмпирическом знании о возможном соположении вещей и разумных практических действиях человека» [Телия 1977: 171]. В качестве примера, иллюстрирующего нарушение эмпирических пресуппозиций, приводится описание деяний жителей города Глупова: Началось с того, что Волгу толокном замесили, потом теленка на баню тащили, потом в кошеле кашу варили, потом козла в соложеном тесте утопили, потом свинью за бобра купили да собаку за волка убили... потом рака с колокольным звоном встречали, потом щуку с яиц согнали, потом блинами острог конопатили… потом небо кольями подпирали, утомились и стали ждать, что из этого выйдет (Салтыков-Щедрин) [там же: 171-172]. Представленный текст в сокращенном виде приводят Т. Г. Хазагеров и Л. С. Ширина в «Словаре риторических приемов», иллюстрируя им импоссибилию, или адинату, которую определяют следующим образом: «…неспециально охарактеризованная фигура», связанная с намеренным нагромождением небылиц» [Хазагеров, Ширина 1999: 229]. Импоссибилия – это сложный прием, представляющий собой ряд неправдоподобных сообщений и нередко осложненный другими приемами: в приведенном примере из М. Е. Салтыкова-Щедрина – анафорой (повтор лексемы потом) и аккумуляцией (нагромождением синтаксически однородных частей предложения). Он обладает жанрообразующей силой, т. к. лежит в основе небылицы как особом жанре народного творчества (шуточном рассказе о том, чего не бывает [Ожегов, Шведова 1999: 401].). Впервые попытка описания механизмов построения «виртуальных отклонений», или «вымыслов», была предпринята М. В. Ломоносовым в «Кратком руководстве к красноречию…» (об этом см. выше в главе 1 части II), на что обратил внимание А. П. Сковородников, отстаивая идею систематизации принципов построения приемов различного типа [Сковородников 2004а: 20]. Развивая эту идею, попытаемся доказать, что к приемам неправдоподобия применимы операциональные принципы, по которым осуществляются описанные выше отклонения. В одной из публикаций [Копнина 2002] нами было предложено разграничивать две группы приемов: 1) приемы, построенные на отклонении от наших представлений о качествах, свойствах, действиях 460
человека; 2) приемы, построенные на отклонении от наших представлений о том мире, который окружает человека, т.е. о явлениях природы, о поведении животных и т.д. В дальнейшем приемы первой группы А. П. Сковородников предложил обозначить как антропоцентрические, приемы второй группы – как природоцентрические, или натуроцентрические, нонантропоцентрические [Сковородников 2004а: 19]. Позже приемы первой группы были названы им антропосферными, второй группы – нонантропосферными [Сковородников 2005б: 106]. Антропоцентрические (антропосферные) и нонантропоцентрические (нонантропосферные) типы онтологической нормы и отклонений от них выделяются условно, поскольку «очевидно, не бывает картин мира полностью неантропоморфных, внечеловеческих, так как картины мира есть всегда картины, увиденные глазами человека» [Роль… 1988: 35]. Возможна и другая классификация норм и, соответственно, отклонений от них. Онтологические нормы можно подразделять на социальные нормы (выработанные в обществе и отраженные в сознании человека предписания относительно его поведения – речевого и неречевого), которые имеют деонтический (связанный с модальностью долженствования) характер, и нормы природные, имеющие характер алетического долженствования311. В рамках социальных норм можно выделить нормы речевого поведения и нормы неречевого поведения; в рамках природных – нормы зарождения, строения и развития человека и нормы строения, развития и функционирования природы, окружающей человека. Любое отклонение от названных выше норм осуществляется при помощи тех или иных операторов. Проиллюстрируем это положение, не ставя перед собой задачи терминировать все случаи отклонений.
311
Ср.: «Нормативные концепты объединены некоторым "фамильным сходством", не предполагающим наличия у всех групп единого понятийного ядра. Концепт нормы соотносится с модальностями долженствования (норма в человеческом обществе), необходимости (неукоснительные законы мироздания), вероятности (среднестатистические нормы)» [Арутюнова 1987: 7]. Нормы вероятности характерны и для норм в человеческом обществе, и для законов мироздания. 461
Отклонения с операторами прибавления В синем-синем небе плавала чайка. У чайки вместо лапок, обычно встречающихся у птиц, торчали две человеческие ноги. Каждая по семнадцать с половиной килограммов (ЛГ. 2005. № 4) – контаминация (сращение) частей тела животного и человека как отклонение от норм анатомического строения объекта природы (упоминание веса ног указывает на неправдоподобность полета чайки). Смешение (наложение) литературных (в том числе сказочных) персонажей, героев художественных фильмов с реальными историческими явлениями, лицами: Огненное озеро. Водяной, домовой и леший, окунувшись, уходят на фронт тремя богатырями. Александр Невский дарит Василисе Премудрой мешки отрезанных русских ушей и носов. Петр Первый запросился обратно в Азию. Христос схватился с Перуном, другие поганые боги разбежались, не зная своих имен. Первый бал Наташи с чертом. Клеится к сумеркам дымный рассвет. Милитаристское выступление сестрицы Аленушки в военнополитической академии Фрунзе (В. Ерофеев. Энциклопедия русской души). Оператор преувеличения (как разновидность оператора увеличения) лежит в основе гиперболы – приема, состоящего в количественном преувеличении меры какого-либо признака, свойства объекта изображения, или, другими словами, в приписывании ему таких свойств, которыми он в действительности обладает в меньшей степени. Н. В. Ярышева пишет, что «…всеми исследователями отмечается отличие гиперболы от простого преувеличения, заключающейся в намеренности и нереальности, несоответствии передаваемой ею информации действительности» [Ярышева 1985: 5]. Напр.: Жил-был кот, / Ростом он был с комод, / Усищи – с аршин, / Глазищи – с кувшин… (Н. Заболоцкий) – неметафорическая гипербола; (об автомобильной пробке) Дальше пробка уже проросла мхом. Грузовики и легковушки проржавели от неподвижности и превращались в недвижность (ЛГ. 2005. № 57) – метафорическая гипербола («проросли мхом» – очевидно, покрылись пылью). 462
Степень «виртуальности» отклонения от онтологической нормы, по наблюдениям исследователей, может быть различной: минимальной в относительной гиперболе, когда изображенный факт или явление представляются маловероятными, но в принципе возможными (Я сто раз тебе это говорил), и максимальной – в гротескной (абсурдной) гиперболе (термин [Борисенко 2007: 50]), представляющей собой один из типов гиперболы абсолютной312, в которой то, что помыслено, не имеет и не может иметь референта. Ср. разный характер градуальности следующих гипербол: На краю фонтана сидела Катя в своих широких мятых штанах и ботинках, каждым из которых запросто можно убить овчарку (А. Матвеева. Па-де-труа) и А когда меня, между прочим, спрашивают, сколько мне лет, я называю цифры и вдруг от этой почти трехзначной цифры прихожу в содрогание (М. Зощенко. Мелкий случай из личной жизни). Возможна гиперболизация самых различных явлений действительности, в том числе: а) размеров частей человеческого тела, б) некомпетентности в той или иной области, в) эмоционального состояния человека, напр.: а) В конкурсе «Мисс Бюст-2007 победила девушка, лицо которой так и осталось неизвестным (Телесемь. 30.07-05.08.2007); б) Блондинке в автошколе задают вопрос: – Как работает двигатель? – Можно своими словами? – Конечно. – Вж-ж-ж, вж-ж-ж, вж-ж-ж!!! (Анекдот); в) …Они (русские девки. – Г. К.) визжат, как визжали и встарь, дрожа всем своим естеством, конвульсируя, визжат в беспамятстве, с отлетевшим в канаву сознанием (В. Ерофеев. Энциклопедия русской души). Отклонения с операторами переноса Оператор переноса выступает применительно к рассматриваемой группе приемов как 1) транспозиция свойств объекта одного онтологического класса (классификационной категории) на объект 312
Термины «относительная гипербола» и «абсолютная гипербола» принадлежат А. П. Сковородникову [Сковородников 2005в: 42]. 463
другой онтологической сферы (другой классификационной категории; 2) смещение объекта в пространстве, во времени; 3) перестановка объектов местами или описание событий в обратной последовательности. На транспозиции (переносе) свойств объекта одного онтологического класса на объект другого онтологического класса основан такой прием, как олицетворение (ассоциативное перенесение на предметы, природные явления, абстрактные понятия, животный и растительный мир свойств, качеств человека). В качестве его разновидности выделяют персонификацию – «полное уподобление неодушевленного предмета человеку» [Голуб, Розенталь 1997: 219; ПР 1998: 125]; «представление природных явлений, предметов, человеческих свойств, отвлеченных понятий в образе человека» [Русова 2004: 164]; вариант олицетворения, «в котором сопоставляющий компонент в большей степени наделен живыми, человеческими чертами, чем сопоставляемый» [Хазагеров, Ширина 199: 258]313. Особенностями этих определений является исключение животных как возможных предметов персонификации и указание на степень антропоморфичности олицетворяемого предмета, что отражено в сочетаниях «полное уподобление… человеку», «представление… в образе человека», «в большей степени наделен… человеческими чертами». Выделение персонификации в качестве разновидности олицетворения по обозначенным признакам, очевидно, опирается на классические труды в области риторики. Степень антропоморфичности предмета олицетворения как основание классификации намечается уже в «Теории красноречия» А. Галича: «Олицетворенiе – оживляетъ бездушные, мертвые предметы, даже отвлеченныя понятiя, сообщая имъ жизнь, движенiя, чувство и языкъ. Первая степень сей фигуры даетъ бездушнымъ предметамъ свойства живыхъ тварей, выражаясь двумя, тремя словами, часто однимъ эпитетомъ и способность поступать по размышленiю, – обыкновенно переноснымъ; вторая заставляетъ бездушные предметы дѣйствовать и поступать такъ, 313
Иное понимание персонификации как разновидности диалогического приема, состоящего в использовании личных местоимений первого и второго лица, в [Жуланова 2000]. В этом значении персонификация близка прозопопее как «представлению своей речи в форме диалога» [Филиппов, Романова 2002: 109]. Но наиболее распространенным является использование этих терминов в качестве синонимических олицетворению. 464
какъ могутъ только поступать существа одушевленныя; – третья, самая сильная и отважная, не только безжизненнымъ вещамъ, придаетъ сознанiе; но и вводитъ оныя говорящими или внемлющими то, что мы имъ сказываемъ» [Теория красноречия… 1830: 51-52]. На такой «третьей степени» олицетворения основан традиционно выделяемый тип этого приема – апостроф, или «риторическое обращение к неодушевленному адресату, которому таким образом приписывается человеческая способность участвовать в диалоге» [СЭС 2005: 389]. Выделение современными исследователями персонификации как особого типа олицетворения соответствует, если опираться на терминологию А. Галича, третьей степени этой фигуры. Что касается первой и второй степени олицетворения, описанных этим ученым, то, с нашей точки зрения, они могут быть объединены в один вид, так как общим для них является наделение бездушных предметов признаками одушевленных (живых) существ, то есть, очевидно, такими признаками, которые свойственны не только человеку, но и другим живым существам. Однако поскольку термины «олицетворение» и «персонификация» этимологически связаны со словом лицо (личность, человек), то обозначение ими понятий, находящихся в родовидовых отношениях, явно неудачно. Если же олицетворение и персонификацию рассматривать как согипонимы, закрепив соответственно за персонификацией значение очеловечивания чего-либо (третья ступень – у А. Галича), а за олицетворением – значение наделения чего-либо признаками не только человека, но и других живых существ (первая и вторая ступени олицетворения у А. Галича), то возникает вопрос о родовом терминопонятии (гиперониме). Как гипероним можно было бы использовать термин оживление. Однако этот термин оказывается неприменимым для обозначения персонификации животных, которые уже являются живыми существами. Выведение же приема перенесения человеческих свойств, признаков на животных за пределы оживления также не решает проблемы системности рассматриваемых понятий, поскольку у персонификации животных и персонификации, например, предметов одинаковый механизм приемообразования. Таким образом, возникает вопрос не только о лингвистическом статусе приема, но и о системности в области терминирования многоообразных случаев олицетворения в его разных осмыслениях. Кроме упомянутого выше риторического обращения, в русских риториках описан еще один тип олицетворения – заимословие (Ser465
mocinatio). По мнению И. Рижского, заимословие – это «…рѣчь, влагаемая сочинителемъ въ уста отсутствующихъ, или умершихъ лицъ, или приписуемая бездушнымъ вещамъ» (курсив наш. – Г. К.) [Опыт риторики… 1809: 61]. Н. Кошанский заимословием называет «…прекрасный оборотъ, влагающiй слова въ уста отсутствующаго, или умершаго мужа. (На ней основаны разговоры въ царствљ мертвыхъ.)». «Часто сiя фигура, – пишет он, – соединяется съ Одушевленiемъ, когда бездушному предмету, сверхъ жизни и дѣйствiя – даются слова». В качестве примера соединения заимословия и одушевления Н. Кошанский приводит такой текст: «Я прошу у быстрой Волги: / Возврати ты друга мнѣ. / Быстра Волга отвѣчаетъ: /″Другъ твой въ дальней сторонљ.″» [Общая реторика 1844: 100-101]. Следовательно, термин заимословие имеет два значения: 1) наделение способностью говорить мертвых (умерших) людей и 2) наделение этой же способностью бездушных вещей, то есть предметов. Заимословие во втором значении – разновидность олицетворения. Таким образом, заимословие и риторическое обращение выделялись на основе того, какие признаки человека как существа разумного переносились на неодушевленный предмет: способность говорить (заимословие 314) или способность слушать и понимать (риторическое обращение). На этой же основе современными исследователями как тип олицетворения [Хазагеров, Ширина 1999: 242] или метафоры [Ахманова 2004: 230] рассматривается метагогé – прием, связанный с приписыванием чувств неодушевленным предметам, напр.: В общем, съемка прошла удачно. Несколько раз, в моменты, когда говорил Караулов, камера слегка краснела от стыда (Завтра. 2003. № 1). Однако возможна классификация олицетворения, или персонификации (будем понимать эти терминопонятия как синонимические), и на ином основании, а именно с точки зрения предмета, наделяемого свойствами, признаками человека. С. К. Константинова пишет, что «круг олицетворяемых предметов необычайно широк: олицетворение распространяется буквально на все явления, понятия 314
Ср. с иным пониманием заимословия: «…созданная автором речь, представляющая определенную позицию или точку зрения. Заимословие может содержать олицетворение» [Волков 2001: 328]. 466
окружающего мира, на психические, социальные, интеллектуальные состояния, на ирреальные объекты» [Константинова 1997: 48]. Несмотря на это, можно выделить, по меньшей мере, три вида рассматриваемого приема: 1. Олицетворение вещей, явлений неживой природы, напр.: Ночью дождь на елку / Брызнул втихомолку, / Жаловался тучке: / "Здесь одни колючки!" (А. Чутковская); Ветры по полю гуляют, / Ветры щеки надувают; / Дуют, дуют, листья рвут, / Злятся, злятся, травки мнут (П. Потемкин); Внимательные северные звезды / (Совсем не те, что будут через год), / Прищурившись, глядят в окно Лицея (А. Ахматова). Такая разновидность олицетворения вещей и явлений неживой природы может быть названа анимизацией (анимизм – «донаучное представление первобытных народов, согласно которому каждая вещь имеет свой дух, душу; одухотворение сил и явлений природы…» [БСИС 2003: 50]). 2. Олицетворение явлений живой природы (животного и растительного мира), напр.: …Иван сосредоточил свое внимание на коте и видел, как этот странный кот подошел к подножке моторного вагона «А», стоящего на остановке, нагло отсадил взвизгнувшую женщину, уцепился за поручень и даже сделал попытку всучить кондукторше гривенник через открытое по случаю духоты окно (М. Булгаков); Эпидемия птичьего гриппа привела к тому, что кукушки сами спрашивают у прохожих, сколько им жить осталось (Телесемь, 20-26.11.06); Плывут две акулы вдоль побережья и видят виндсерфингиста. Одна другой говорит: – Вот это сервис! На подносе да еще с салфеткой! (Телесемь. 25.06-01.07.2007). Или другой пример, когда олицетворение лежит в основе всего текста: В одно особенно неприятное солнечное субботнее утро Степан Иваныч обнаружил на батарее вместо шерстяных носков записку от моли, среди прочих тем содержавшую довольно сомнительное утешение в том, что теперь их не придется стирать.
Степан Иваныч слышать ничего не хотел. Он упорнейше не подходил к телефону и в конце концов трубку взяла моль. Она до467
вольно развязно принялась болтать с Иван Степанычем и наговорила ему кучу всяческого вздора . Неделю спустя Степан Иваныч получил от моли вторую записку. На сей раз послание лежало не на батарее, а на кухонном столе. Тон записки был несколько истеричен, скандален и отчасти слезлив. Моль сообщала о том, что так как он больше не обращает на нее внимания, она уходит от него к Ивану Степанычу (ЛГ. 1420.04.2004). Таким образом, в рамках второй группы можно выделить две подгруппы: флоризацию как олицетворение растений (флора – «богиня цветов и весны», «совокупность всех видов растений какойлибо местности или геологического периода» [БСИС 2003: 683]) и фаунизацию как олицетворение животных (фауна – «богиня , покровительница пасущегося скота», «совокупность всех видов животных какой-либо местности, страны или геологического периода» [там же: 668]. 3. Олицетворение абстрактных понятий, или персонифицированная материализация абстракции, напр.: Страх, во тьме перебирая вещи, Лунный луч наводит на топор (А. Ахматова); Людям страшно – у меня изо рта / шевелит ногами непрожеванный крик (В. Маяковский. Все-таки); Домашний блинный запах бросался навстречу и норовил лизнуть нос (В. Ерофеев. Пупок). Близким к олицетворению является прием наделения способностью говорить, слышать или двигаться умерших людей. Такой прием может быть назван спирификацией (ср. спиритизм – «…суеверное признание загробной жизни «духов» умерших людей и возможности общения с ними » [там же: 604]). Он представлен, например, в следующих высказываниях: Грузчики гробов отвечают классическому типу могильщиков. Все, что ни скажут друг другу во время работы – все будет казаться странным, философским, значительным. Ибо их молча слушает из-под крышки третий собеседник (Завтра. 2001. № 42); В тот момент, когда кортеж Ельцина утром девятнадцатого возвращался с аэродрома в Барвиху и ответственный за операцию ГКЧП Крючков не отдал приказ «Альфе» задержать разрушителя Родины, с этой минуты предательства началась лавина бесконечных, ужасных предательств, которым в гробу, с петлей на шее, рукоплещет генерал Власов (Завтра. 2004. № 34); Рама широко распахнулась, но вместо ночной свежести и аромата лип в комнату ворвался запах погреба. Покойница всту468
пила на подоконник (М. Булгаков. Мастер и Маргарита); Придя в себя, я начал оглядываться и вскоре насчитал еще несколько хорошо знакомых лиц. Через стол поедал куриную ножку великий защитник прав чеченского народа Сергей Ковалев . Совесть нации, академик Лихачев, тоже, как я полагал, усопший, но значительно помолодевший, аккуратно промокал салфеткой губы (А. Афанасьев. Гражданин тьмы). Общим у олицетворения и спирификации является перенос объектов и/или их признаков из одной жизненной сферы в другую: у олицетворения из сферы внеположенной человеку живой и неживой природы в антропоморфную сферу (сферу человеческих действий, поступков, отношений), у спирификации – из сферы мертвых в сферу живых людей. В качестве гиперонима по отношению к олицетворению и спирификации может использоваться (разумеется, при некотором переосмыслении) терминопонятие одушевление, которое ранее трактовалось исследователями как синоним олицетворения. Упомянутое выше заимословие в его первом значении может рассматриваться как разновидность спирификации. Таким образом, заимословие (как наделение способностью говорить умерших людей и наделение этой же способностью бездушных вещей), являясь разновидностью одушевления, может быть представлено двумя видами – спирифицированным (а) и персонифицированным (б), напр.: а) Ни дождя, ни ветра, не скулит семья… Два квадратных метра комнатка моя. Я живой – не стлелый – трудно, видит Бог, С правого на левый повернуться бок. Не богач, не нищий, но еще – жилец. Кто-то меня ищет, ибо я – беглец. Кто-то кипятится с бисером на лбу! …Даже помочиться не с руки – в гробу! (Г. Горбовский. В гробу // ЛГ. 2005. № 34); 469
б) Лежат на крыше два кирпича: молодой и старый. Молодой говорит: – Давай спрыгнем. Там внизу мужик идет! Прыгнули. Летят. Молодой присмотрелся и говорит: – Ой, пропали! Мужик-то в каске! Старый: – Всегда вас, молодых, учить надо. Эй, мужик! Мужик поднимает лицо кверху: – Чего? (Анекдот // Ю. Щербатых. Искусство обмана. М., 2002). Как и в случае с заимословием, можно выделить по меньшей мере две разновидности аверсии (риторического обращения, когда объектом обращения служит олицетворяемый предмет или заведомо отсутствующее (умершее, воображаемое) лицо [ЭСС 2005: 10; Хазагеров, Ширина 1999: 192]) – персонифицированную (а) и спирифицированную (б): а) О первый ландыш! Из-под снега / Ты просишь солнечных лучей; / Какая девственная нега / В душистой чистоте твоей (А. Фет); б) Ребята! И как же нужно было вас достать, чтобы вы решили уйти из жизни, которую так безумно любили! (Мир новостей. № 19. В год смерти Астафьева). Однако если суть описанных выше приемов заключается в приписывании не свойственных признаков какому-то описываемому объекту действительности, то в аверсии этот объект не описывается, а упоминается или подразумевается, а значит, применительно к этому приему вряд ли можно говорить о неправдоподобном описании. Разновидностью одушевления можно считать также такое оживление неодушевленных предметов или явлений, при котором они наделяются признаками, свойственными не человеку, а другим живым существам, например животным: Маргарита повесила трубку, и тут в соседней комнате чтото деревянно заковыляло и стало биться в дверь. Маргарита распахнула ее, и половая щетка, щетиной вверх, танцуя, влетела в спальню. Концом своим она выбивала дробь на полу, лягалась и рвалась в окно (М. Булгаков) – анимализация по Б. Т. Ганееву [Ганеев 2004: 317]. 470
Полагаем, что оператор перенесения лежит в основе бестиализации (термин Б. Т. Ганеева) – приема, противоположного «очеловечиванию» животных [Ганеев 2004: 319] и заключающегося в приписывании человеку свойств других живых существ, напр.: Обнаружен мальчик, воспитанный черепахами. Отличается от обычных мальчиков чуть более толстой скорлупой и желанием закопаться в песок (ТД. 2001. № 2). Свойства животных могут переноситься не только на человека, но и на другие явления действительности, на абстрактные понятия, напр.: Когда из березовой почки выходит весна, / неслышно ступая на мягких невидимых лапах… (А. Расторгуев. Запахи). На операторе переноса строятся и другие приемы: Что же касается бен Ладена, его видели недавно в Москве, у картины знаменитого художника Веермейра Дельфтского. Он разглядывал в лорнет беременную голландскую женщину, читающую у окна письмо. Когда бен Ладена спросили, кто отец ребенка, тот загадочно улыбнулся и ответил: «Араб» (Завтра. 2001. № 40) – пространственное смещение, перенос бен Ладена в Москву; «Велика Россия, – думал Кутузов, – а отступать-то некуда – позади Москва, пробки…» (Телесемь. 15-21.10.2007) – хронотезия (термин А. П. Сковородникова [2005г: 115]) на основе переноса исторического деятеля ХVIII-ХIХ веков в реальность ХХI века. Овеществлением (А. В. Федоров, Дж. Родари), или инанимацией (Б. Т. Ганеев), называют прием, заключающийся в приписывании явлениям живого мира (в том числе человеку) свойств и признаков, характерных для неодушевленных предметов (вещей), что можно наблюдать в следующем высказывании: С первого летнего понедельника она [Анфиса Чекова] стала превращаться в человекаантенну и уверенно ловить телевизионную волну. И не любую волну, а только развлекательных, с соревновательным уклоном передач (ЛГ. 23-29.06.2004) – приписывание человеку свойств, которыми он в действительности обладать не может. На операторе перестановки как типе переноса основан прием, близкий к хронотезии и состоящий в таком описании событий (и, следовательно, расположении слов), которое не соответствует их временной последовательности. За этим приемом закрепился термин гистеропротерон (иные названия – гистерология, гистерон протерон, протистерон) [Москвин 2006а: 85; Хазагеров, Ширина 1999: 471
219]. Классическим примером гистеропротерона является высказывание Вергилия «…Умрем / И в гущу сраженья ринемся». Оператор функциональной перестановки усматриваем и в следующем случае: – Папа, а где моя черепашка? – Так она с ребятами во дворе… Орехи колет (Телесемь. 2026.11.2006) – ср.: ребята ею во дворе орехи колят. Результатом действия операторов переноса является совмещение (контаминация) свойств объектов, пространственная или временная контаминации. Так, на совмещении сказочных событий с фактами реальной действительности строится следующий юмористический рассказ: Кто только не пытался рассмешить Царевну-Несмеяну – и факиры индийские, и мутанты чернобыльские, и президент американский, и сам Петросян, – ничего у них не получалось. Сидит, зараза, ровно воды в рот набрала. Тут подошел к Несмеяне замухрыженный старичок и что-то ей шептул на ухо. «Скоко, скоко?» – переспросила неулыбчивая Царевна. Старичок зарделся и снова склонился к ее ушку. Несмеяна так и покатилась со смеху. – Ты кто такой, чего смешного сказал Царевне? – спрашивает родня у старичка. – Иван Петрович я, – отвечает им старичок. – А сказал я вашей девоньке, какая у меня пенсия? (М. Валеев. Как Иван Петрович с царизмом покончил // Литературный Красноярск. 18.01.2008). Отклонения с оператором замещения На операторе замены, с нашей точки зрения, строится прием превращения. Т. А. Чернышева пишет, что превращение может быть материальным и буквальным (когда человек действительно превращается в мышь, иголку и т.п.), а может быть условным (превращение оказывается не реальным, а воображаемым), как в сказке Ш. Перро «Рике-с-хохолком»: И не успела принцесса произнести эти слова, как Рике-с-хохолком предстал перед ней самым красивым в мире молодым человеком, самым стройным и самым приятным. Иные, правда, уверяют, что дело тут вовсе не в чарах феи, но что одна любовь виновата в таком превращении [Чернышева 1985: 57]. И в 472
том и в другом случае отклонение от нормы является «виртуальным», однако второй тип превращения («условный», по Т. А. Чернышевой) считаем нейтрализуемым. По сути, во втором случае перед нами то, что называют приемом «помещения в центр щита» [Дюбуа и др. 1986: 335], поскольку перед нами воображаемое превращение в рамках воображаемого (виртуального) мира. На операторе замены строится жанр комических рекомендаций того, как следует себя вести в той или иной ситуации: описание нормативного для какой-либо ситуации поведения подменяется рекомендацией ненормативного характера (антирекомендацией), напр.: Если вы заблудились в лесу и очень устали, найдите медведя, бросьте в него камнем – и вашу усталость как рукой снимет (Телесемь. 15-21.10.2007) – здесь представлено также усечение информации (Ср. …и вы побежите так, что усталость как рукой снимет). В жанре антирекомендаций написаны «Вредные советы» Г. Остера. Вот некоторые из них: Кто не прыгал из окошка Вместе с маминым зонтом, Тот лихим парашютистом Не считается пока. Не лететь ему, как птице, Над взволнованной толпой, Не лежать ему в больнице С забинтованной ногой. Если не купили вам пирожное И в кино с собой не взяли вечером, Нужно на родителей обидеться, И уйти без шапки в ночь холодную. Но не просто так Бродить по улицам, А в дремучий темный Лес отправиться . Оператор замены представлен в следующем высказывании, иллюстрирующем виртуальное отклонение от норм невербального поведения: Сварщик Семен для бритья использует пену из огнетушителя (Телесемь. 13-19.08.2007). 473
Таким образом, прослеживается изоморфизм риторических отклонений от собственно языковой и речевой нормы. Перечень типов отклонений и операторов в любом случае количественно обозрим, в отличие от самих объектов. Поэтому мы не исключаем существование приемов, которые не нашли отражение в нашей работе (тем более что «…всегда можно открыть или изобрести новые "виды"» отклонений» [Дюбуа и др. 1986: 232], особенно синкретичных), но полагаем, что они вполне смогут уложиться в подсистему, образованную по тому или иному принципу. В этом преимущество нашего описания от «списочной» подачи речевых приемов, которая сейчас распространена в научной литературе. Представим риторические отклонения от речевых норм разного типа в виде таблицы (см. таблицу 4).
474
Таблица 4
Прагматически мотивированные отклонения от речевых норм315 Тип отклонения
Оператор Расчленение Замещение
Отклонения от формальнологической нормы Апофазия
Синтагматический Перенос Парадигматический Убавление
Отклонения от «общего принципа нерегулярности текстовой структуры»
Перестановка
Отклонения от информационноречевой нормы
Отклонения от жанровостилевой и ситуативной норм
«Эффект уклончивых слов» (Т. Г. Винокур)
Лирическое отступление
Эллиптические нения
Усечение текста Временной пролепсис
Мена причины и следствия
Смещение Конверсия, или транспозиция свойств
Усечение
срав-
Пропуск Растяжение (развертывание, удлинение) Прибавление
Преувеличение Совмещение однотипных или одинаковых единиц (повтор) Совмещение Совмещение разных единиц
315
Отклонения от повествовательной нормы
Встав ка Наложение Аттракция
Отклонения от этикоречевой и эстетикоречевой норм
Отклонения от предметнологической нормы
Прием дисфемизации
Прием превращения Гистеропротерон Хронотезия Одушевление и его виды, овеществление
Прием излишней детализации, аккумуляция
«Нанизывание» простых предложений
Гипербола Аллитерация, ассонанс, гомеология, изоколон и др. РП, основанные на повторе
Контаминация
Адианоэта Антитеза, ция и др.
града-
Прием обманутого ожидания (в узком понимании); симультатив и др. противоречивые высказывания
В таблице не отражены синкретичные приемы и приемы, не имеющие терминологического наименования.
«Смешение лей»
сти-
Контаминация разных текстов
4. Синкретизм отклонений от языковой и речевой нормы Гипаллага (гипаллаг) – прием синкретичного характера («гибридная фигура» по [Хазагеров, Ширина 1999: 217]), основанный на инверсии, при которой может меняться грамматическая форма слова, и семантической транспозиции. Это «семантико-синтаксическая перестановка» (по [Манчинова 1998: 18]); инверсия, в результате которой «"рождается" троп» [ЭСС 2005: 95]316. Однако как быть с таким высказыванием, которое приводит А. И. Полторацкий: Незнакомец протянул улыбающуюся руку. Хотя понятно, что речь идет об улыбающемся человеке, нельзя сказать, что слово улыбающуюся использовано в переносном (метафорическом или метонимическом) значении. А. И. Полторацкий считает подобные высказывания разновидностью гипаллаги [Полторацкий 1991: 145]. Поскольку в основе приведенного высказывания – оператор инверсии, приводящий к грамматической трансформации перенесенного слова, но не к переосмыслению его значения, то подобные случаи, полагаем, можно трактовать как особый тип инверсии, а не гипаллаги – структурно более сложного образования. Синкретичным приемом является и энáллага (в одном из значений)317 – перенос эпитета на управляющее слово (голубей крепкокрылая стая вм. голубей крепкокрылых стая) [Ахманова 2004: 525] или – реже – на управляемое [Хазагеров, Ширина 1999: 286] (моря неизливные слез вм. моря неизливных слез [ЭСС 2005: 96]). В приводимых исследователями примерах с генитичными конструкциями эналлаги представлены оба существительных: то существительное, 316
Поскольку переносится, как правило, эпитет, гипаллагу называют также перемещенным эпитетом, перенесенным эпитетом [Хазагеров, Ширина 1999: 217]. Как синонимы даются термины смещение, гипаллаж в [Москвин 2006а: 308-309]. Ср. иное понимание гипаллаги как взаимной перестановки двух слов [Клюев 1999: 195]. 317 Ср. иное понимание эналлаги: перемещение эпитета к другому опорному имени существительному [Москвин 2006а: 309], «сочетание определения-эпитета не с тем существительным, к которому оно непосредственно относится» [Филиппов, Романова 2002: 133]. По сути, при таком понимании термин эналлага используется как синоним гипаллаги. 476
которому эпитет передается, и то, у которого эпитет отбирается («обнажение приема», по А. И. Полторацкому [Полторацкий 1991: 141]) – причем эпитет стоит между этими существительными. Очевидно, эналлага – это лишь особый структурный тип гипаллаги. На операторе совмещения строится прием оксюморона (оксúморона), который состоит в соединении двух противоречащих друг другу по смыслу слов (отклонение от норм сочетаемости слов + отклонение от закона противоречия), напр.: Ведь по сути она имела дело с мертвецом, который жил только своими воспоминаниями, прокручивая их каждый день, как на каруселях, с утра и до вечера (В. Монахов. Лжизнь); Проводите нас обратно, проводницы / До неправды, до несчастия счастливых (И. Рассадников); В бреду реальности (С. Хомутов); Смеются грубым смехом, немо говорят (А. Шавкута. Метаморфозы); …Можно говорить только об этике порядочного человека. Или ее антиподе – этике мерзавца… Что, пожалуй, уже не этика, а беспредел (Изв. 21.01.1998); Испекли баба с дедом колобок и положили остывать на окно. Колобок скатился и убежал в лес. Разных потом делали колобков: и квадратных, и овальных, и прямоугольных, но все они скатывались и убегали. Додумались, наконец, радикально изменить форму колобков. Так появились блины (А. Мошков // ЛГ. 01-07.12.2004, рубрика «Сказочки "Клуба ДС"»). В качестве особого приема можно выделить «столкновение производных от омонимичных и паронимичных основ» [Земская 2002: 173], приводящее к ложному этимологизированию – деэтимологизации (ложной этимологии), или «затемнению истинного происхождения слова» [Норман 1994: 80], «инотолкованию ВФС» (внутренней формы слова) [Блинова 2003: 197], напр.: Познакомлюсь с двумя симпатичными ласточками. Два симпатичных ласта (комическое объявление. Всем… 02.12.2005); Я посмотрела ей вслед и подумала, что не зря я всегда про себя звала ее Душечкой. Потому что Душечка – это от слова душить (А. Сапегина. Мужчины провинциального города). Речевые явления, подобные последним двум, Э. М. Береговская описывает как «каламбреден» – «…разновидность языковой игры, которая сталкивает в качестве однокоренных слова-паронимы, ничем, кроме приблизительного звукового сходства, между собой не 477
связанные…» [Береговская 2003: 116]: Графин – муж графини (Б. Норман); Думал, что ежевика – жена ежа (Э. Альт) [там же: 117]. В результате совмещения псевдооднокоренных слов одно из слов оказывается носителем двух значений – узуального и окказионального. Особенно интересны и недостаточно описаны, на наш взгляд, такие метонимические замены, когда перед семантическим производным дается прямое название. Эти речевые явления можно назвать, вслед за М. В. Пановым, «позиционными метонимиями»: происходит «позиционное чередование смысла одного слова». Если лицо названо существительным, обозначающим деталь внешности, то этот случай исследователь называет «позиционной синекдохой». Предшествование знаменательного слова производному, по его мнению, роднит «позиционные метонимии» с местоимениями, которые являются позиционными словами [Панов 2004: 450]. Такого рода «позиционные метонимии» используются, главным образом, с целью создания комического эффекта, напр.: Теперь ее муж спускался к ней по лестнице и, глядя в ее розовое, счастливое лицо, гадал, что за радость у нее приключилась. Радость – увы! фиктивная – сидела в гостиной и таращила сами собой закрывающиеся глаза… (Л. Улицкая. Веселые похороны). Для таких речевых явлений используется также термин «диатеза» в одном из своих значений – как «…стилистический прием, используемый для такого представления ситуации, при котором происходит устранение (невключение в перспективу) объекта в его целостности, которая представляется несущественной для целей художественного изображения, при одновременном выделении его особо значимых элементов» [ЭСС 2005: 116]: И вдруг, у самого поворота в Суходол, увидали мы в высоких мокрых ржах высокую и престранную фигуру в халате и шлыке, фигуру не то старика, не то старухи, бьющую хворостиной пегую комолую корову. При нашем приближении хворостина заработала сильнее, и корова неуклюже, крутя хвостом, выбежала на дорогу. Ср.: Фигура сильнее заработала хворостиной [там же: 117]. Термин «позиционная метонимия», на наш взгляд, более точно отражает суть этого явления. Происходит экспрессивное совмещение в узком контексте слова в прямом значении и этого же слова в переносном значении, то есть перед нами синкретичный РП, являющийся отклонением и от собственно языковой 478
нормы (факт вторичной номинации), и от нормы речевой (от «принципа нерегулярности текстовой структуры»). Синкретичным является прием синтаксической аппликации (термин Е. Н. Рядчиковой [Рядчикова 1997]) – особый случай парцелляции, когда при подключении парцеллята происходит изменение не только актуального членения базового предложения, но и значения отдельных слов в его составе или его синтаксического статуса, напр.: Я пришел к вам с миром. С уголовным (МК. 18.03.1999). Происходит, с одной стороны, отклонение от собственно языковой нормы при помощи оператора расчленения, с другой – от логикоречевой нормы при помощи оператора наложения омонимов: мир1 – «согласие, отсутствие вражды» и мир2 – «объединенное по опред. признакам человеческое сообщество». Аналогичные примеры: Черномырдин все-таки болеет. За «Спартак»! (КП. 22.01.1998). В. Устинов, генпрокурор: «Если у государства убывает, то в кармане нечистоплотных чиновников прибывает. Это вывел еще Михайло Ломоносов». А еще Альберт Эйнштейн вывел: Е=МС2, где Е – это естественные монополии, М – Михаил Ходорковский, С – цены на нефть, а квадрат – решетки на окнах (АиФ. 2004. № 27) – с целью обнажения манипулятивного хода генпрокурора, журналист использует прием неправдоподобия, основанный на временной контаминации, причем его высказывание воспринимается как антифразисное (перенос по контрасту). Подобный пример: Двойник покойного чеченского президента скоро появится в Панкисском ущелье, заявил представитель штаба федеральной группировки в Чечне. И как начнут мутить здесь воду перед выборами!.. Нам удалось выяснить, что ситуация еще тревожнее: помогать Джохару-2 будут Николай III и Рембо 4 (КП. 19-26.10.2003).
479
5. О двойном отклонении, или отклонении от отклонения Наличие фактов двойного отклонения от нормы (отклонения от отклонения, или редукции отклонения [Женетт 1998а]) констатируют представители льежской школы риторики. Они пишут: «Возьмем текст на современном французском языке. С некоторого момента писатель может решить писать на языке ХV в. Поначалу появление черт среднефранцузского, очевидно, будет рассматриваться как фигура, но постепенно отклонение перестает ощущаться. Если текст достаточно велик, оно может превратиться в настоящую условность, и тогда возврат к языку ХХ в. окажется в свою очередь отклонением» [Дюбуа и др. 1986: 276]. А. П. Сковородников говорит о возможности «обратного отклонения» (полагаем, что его можно рассматривать как разновидность двойного отклонения): «В связи с проблемой речевой системности синтаксических фигур открывается еще один аспект их риторического функционирования, когда фигура, вышедшая за пределы спорадических индивидуально-авторских употреблений на уровень общелитературной нормы экспрессивного синтаксиса, сама становится "нулевой ступенью" для вторичной фигуры, так сказать, "обратного отклонения". Происходит (при определенных контекстных условиях) отклонение как бы в обратную сторону: маркированной для данного контекста оказывается бывшая "нулевая ступень". Потенциальные возможности синтаксических фигур к образованию соотносительных фигур "обратного отклонения" еще предстоит установить» [Сковородников 1988: 149]. На двойном отклонении (оператор обратного переноса) основан такой прием, как буквализация метафоры (другие названия: реализация метафоры [ЭСС 2005: 258]318, «"пробуждение" уснувших метафор» [Дюбуа и др. 1986: 36], «оживление» стертых метафор [Баранов, Караулов 1994], «пробуждение» метафоры [Перельман, Ольб-
318
Термин «буквализация метафоры» и его синоним «реализация метафоры» используют и в другом значении: применительно к случаям развернутой метафоры, понятой в нарочито буквальном смысле (см. [Москвин 2006а: 256]). Рассматриваемые же нами примеры в таком случае называют «обновлением метафоры» или «реконструкцией метафоры» [там же: 190]. 480
рехт-Тытека 1987: 255]319) – употребление метафоры в прямом значении. При помощи буквализации метафоры осуществляется отклонение «виртуального типа», напр.: Убежало молоко, Убежало далеко. Вниз по лестнице скатилось Вдоль по улице пустилось, Через площадь потекло, Постового обошло, Под скамейкой проскочило, Трех старушек подмочило, Накормило двух котят, Разогрелось и назад: Вдоль по улице летело, Вверх по лестнице пыхтело И в кастрюлю заползло, Отдуваясь тяжело. Тут хозяйка подоспела. Закипело? Закипело! (М. Бородицкая) Происходит «отклонение второго порядка» [Дюбуа и др. 1986: 36], когда языковая метафора убежало молоко нарочно употребляется в прямом значении, в результате чего описывается ситуация «виртуального отклонения». Актуализацию внутренней формы слова, его первоначального смысла называют буквализацией [Филиппов, Романова 2002: 96], или «приемом обновления значения слова» [Горшков 1996: 148]. Буквализацию метафоры, о которой мы писали выше, можно рассматривать в качестве разновидности этого приема320. 319
Поскольку метафоры могут «пробуждаться» и вновь становиться действующими, более удачным в этом источнике признается эпитет «спящие» метафоры, нежели определения забытая, стертая, непризнанная [Перельман, Ольбрехт-Тытека 1987: 255]. 320 Ср. с другой точкой зрения: прием, состоящий в подчеркивании внутренней формы номинативной единицы с целью выразительности, В. П. Москвин называет «игрой на внутренней форме» («актуализацией внутренней формы», «обнажением внутренней формы») [Москвин 2006а: 73, 116]. Разновидностями «игры на внутренней форме» он считает: 1) буквализацию – нарочито буквальное употребление слова или фраземы; 2) об481
Слова «алчное чиновничество», «социальная справедливость», «взять власть» красной нитью проходили через все выступления делегатов четвертого партийного съезда. Красным были задрапированы сцена, трибуна и стол, за которым сидел президиум . Супруга партийного лидера Татьяна, сидевшая в первом ряду, тоже предпочла надеть костюм алого цвета (АиФ. 2004. № 28); Чем хороши плоские анекдоты – их в голове больше помещается (http://www.anekdot.ru) – ср.: плоские шутки. На операторе обратного семантического переноса (использовании компонентов фразеологизма в прямом значения) основано такое высказывание: Московских пожарных отправили на мокрое дело (МК. 13.04.2001) – статья о мытье пожарными фасадов. Такое использование слов в составе фразеологизма в их прямом значении именуют по-разному: «разрушением образного значения фразеологизмов», «буквализацией фразеологического значения», «двойной актуализацией фразеологизма» [Голуб 1999: 121; Крылова 1999: 78 и др.]. Приведем еще примеры: – А как относится ко всему этому (к открытию и легализации публичных домов) городская администрация? – Они не являются сторонними наблюдателями. В наших стенах нередки захватывающие встречи без галстуков, без рубах и без брюк (СГ. 24.10.1998); Лежат в стакане две линзы, и тут одна другой говорит: – …уже 12 дня, а мы еще ни в одном глазу (Телесемь. 2005. № 12); Самая неприятная поговорка писателя или поэта: «Ничего не попишешь» (Шанс. 17-23.01.2008);
новление (реконструкцию) метафоры – актуализация в контексте внутренней формы стертой метафоры; 3) адноминацию (агноминацию) – в одном из значений – игра на внутренней форме имени собственного [там же: 73, 190, 40]. В данном случае непонятно, почему адноминация рассматривается как вид «игры на внутренней форме», а не как вид буквализации, или почему обновление метафоры не может рассматриваться как вид буквализации. Отдельно от этих приемов рассматривается реализация метафоры как «фигура неправдоподобия», которая состоит в развертывании метафоры, понятой в нарочито буквальном смысле [там же: 256]. 482
Прочие гости, особенно художественные дамы, сладострастно по углам обсуждали создавшийся треугольник, выходя из себя, как тесто из квашни (Л. Улицкая. Сонечка). Фразеологизмы, сознательно используемые автором в несвойственном им значении, И. Б. Голуб называет «семантическими неологизмами» [Голуб 1999: 122]. Факты двойного отклонения от нормы нуждаются в дальнейшем изучении и описании.
ВЫВОДЫ Подведем итоги второй части нашей работы. Существуют традиционные и нетрадиционные подходы к классификации РП. Традиционными можно считать классификации тропов, фигур и – шире – приемов, осуществляемые на основе принципов, продуцирующих эти приемы. Такое основание классификации было намечено еще в античности при выделении фигур добавления, фигур сокращения, фигур перестановки, фигур противоположения и фигур созвучия. В дальнейшем оно развивается в отечественной риторике (в работах А. С. Никольского, В. И. Королькова, Э. М. Береговской, И. В. Пекарской, А. П. Сковородникова, А. А. Кузнецовой и др.). Традиционным для русской риторики считаем также классификации приемов на функциональной основе – с точки зрения выполняемых ими функций, вызываемого эффекта, связанных с намерением адресанта. Это основание классификации прослеживается в работах И. С. Рижского, Н. Ф. Кошанского, М. И. Панова, Л. К. Граудиной и Г. И. Кочетковой и др. Совмещение указанных критериев классификации мы видим, например, у А. З. Зиновьева. При классификации приемов наибольшие расхождения связаны с количеством приемов и квалификацией статуса многих из них (оксюморона, олицетворения, катахрезы, перифразы, аллегории и других). Полагаем, что функциональный критерий при построении общей классификации РП непродуктивен, поскольку в реальной речевой практике нет строгой зависимости между приемом и функцией, которая задана лишь потенциально и ее актуализация в значительной степени зависит от его контекстуального окружения. Поэтому клас483
сификация приемов должна осуществляться на основе конструктивного критерия, отражающего модели их построения. В плане отграничения РП от речевой тактики, речевого жанра большое значение имеет выделение Т. Г. Хазагеровым и Л. С. Шириной лингвистически охарактеризованных и лингвистически неохарактеризованных явлений. Исследователи обращают внимание на факт неоднопорядковости явлений, квалифицируемых как фигуры (приемы), однако в дальнейшем теория лингвистически неохарактеризованных средств ими не развивается. Нетрадиционным является рассмотрение Е. В. Клюевым тропов и фигур как явлений паралогики. При таком подходе паралогическим приемом считают даже отклонения от орфоэпической нормы. Очень широкое понимание фигуры (приема) представлено в работах В. П. Москвина, предложившего классификацию выразительных средств и приемов, казалось бы, на основе традиционного функционального подхода. Однако признание приемами не только отклонений, но и нормативных явлений привело исследователя к совмещению в рамках одной классификации неоднопорядковых явлений: не только фигур слова и фигур мысли, намеченных еще в античности, но и разного рода психологических приемов и речевых актов. Характер предназначения приемов (соблюдение / несоблюдение качеств речи), положенный в основу их типологии, оказывается неубедительным. Нетрадиционной является классификация РП, предложенная А. П. Сковородниковым. Рассматривая РП как область параонтологии, исследователь подчеркивает необходимость развития «технологического» аспекта классификации и отмечает изоморфизм принципов, лежащих в основе построения приемов, отклоняющихся от разных онтологических сфер, что в полной мере подтверждают результаты нашего исследования. Предложенная нами классификация, с одной стороны, развивает традиционные положения теории фигур (она основана на идее отклонения и наличии принципов, продуцирующих это отклонение), с другой – положения представителей льежской школы риторики, выдвинувших понятие «оператора», и идеи А. П. Сковородникова о системности РП. Общим принципом построения РП признается принцип отклонения. Реализация общего принципа дает нам тип отклонения, который осуществляется при помощи операторов (принципов операцио484
нального характера). Существует пять основных операторов: убавление (сокращение), прибавление (добавление, присоединение), перенос (перемещение, транспозиция), замещение (замена) и расчленение (разделение, дробление). Названные операторы традиционно выделялись в риторике, но не подвергались детализации. Между тем в рамках первых трех принципов можно выделить разновидности. Убавление представлено усечением и пропуском; прибавление – растяжением (удлинением; развертыванием) и совмещением (повтором; контаминацией; аттракцией); перенос – синтагматическим (смещением и перестановкой) и парадигматическим (семантическим переносом и конверсией) типами. Изоморфизм названных операциональных принципов, реализующих общий принцип отклонения от нормы, обеспечивает системность РП. О системности РП свидетельствует явление синкретизма как типов отклонений, так и операциональных принципов. Синкретизм операциональных принципов может быть горизонтальным (операторы реализуются одновременно) и вертикальным (операторы реализуются последовательно). Можно говорить также о существовании синкретизма внутритипового (синкретизме операторов в рамках одного типа отклонения) и межтипового (синкретизме операторов, осуществляющегося на основе отклонений от норм разного типа). Приемы, реализуемые на основе двух и более операциональных принципах, названы синкретичными. Замечено, что дискуссии о лингвистическом статусе касаются именно синкретичных случаев. Можно предположить, что в дальнейшем система РП будет развиваться по пути синкретизации приемов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ В книге охарактеризована совокупность РП с позиций системного подхода. РП определяются как прагматически мотивированные и моделируемые отклонения от нормы (в широком понимании: как среднестатистические представления о закономерном, о всевозможных видах и формах порядка) или ее нейтрального варианта с целью оказания определенного воздействия на адресата. Рассмотрев разные, подчас противоречивые, точки зрения исследователей на понятие нормы, мы пришли к выводу, что для теории РП адекватной будет следующая концепция нормы. Норма в широком (философском) осмыслении представляет собой систему, состоящую из целого ряда частных норм – социальных (законы, уставы и т.д.) и природных (например, нормы развития животных, роста растений, выпадения осадков и т.д.). Социальные нормы, являясь конвенциональными, в отличие от природных норм, имеют предписывающий характер (характер долженствования). К ним относятся собственно языковая (структурно-языковая) норма и речевая норма, каждая из которых представляет собой систему. К области речевой (как текстовой, так и речеповеденческой) нормы относятся следующие тесно связанные между собой типы норм: норма нерегулярной встречаемости однородных языковых единиц («нерегулярности текстовой структуры»); информационно-речевая норма; логико-речевая норма (формально-логическая и предметно-логическая); стилистическая и жанровая норма; ситуативная норма; повествовательная норма; этико-речевая норма; эстетико-речевая норма. Названные типы речевой нормы тесно связаны между собой, о чем свидетельствует наличие корреляции между принципами речевого общения, коммуникативными качествами хорошей речи и текстовыми категориями. Широкое понимание нормы позволяет описывать все многообразие приемов, наблюдаемых в реальной речевой практике. Нормативной в языке и речи может быть как нейтральная, так и экспрессивная форма. Поэтому в рамках нормы выделяем нейтрально-нормативный и экспрессивно-нормативный варианты, что наиболее последовательно прослеживается в сфере языковой онтологии. Отклонение от нормы представляет собой переход в речи к такому способу выражения (устному или письменному), который не соответствует обычному, регламентированному; отклонение от ну486
левой ступени нормы – отход от нормативно-нейтрального способа выражения в той или иной конситуации. Принцип отклонения характеризует онтологическую сущность РП. Системными свойствами РП являются: 1) прагматическая мотивированность (намерением адресанта, контекстом и/или ситуацией) отклонения как системообразующего свойства, что отличает приемы от речевых ошибок; 2) моделируемость отклонения (воспроизводимость по образцу), что связано как с моделируемостью речевой деятельности человека в целом, так и с наличием продуцирующих приемы операциональных принципов (описание модели осуществляется через описание «технологии» отклонения); 3) функциональная общность как выполнение функции речевого воздействия, прежде всего экспрессивной функции в ее разнообразных проявлениях, что является следствием вхождения РП в единства более высокого порядка – в систему языка и систему речи; 4) способность РП к нейтрализации («снятию» принципа отклонения): а) контекстуальной, или речевой, когда происходит переосмысление аномалии (отклонение начинает восприниматься как норма); б) языковой (речевая единица становится фактом структуры языка) – что свидетельствует о динамическом характере системы РП, который подтверждается также наличием синкретичных РП как приемов, образуемых на основе двух и более принципов. Анализ различных классификаций и выявленных нами системных свойств РП позволяют утверждать, что наиболее адекватно отражающей сущность РП и позволяющей описать все многообразие речевых фактов может быть только та общая классификация отклонений, основания которой осмыслены с точки зрения системного подхода. Опыт такой классификации и представлен в данной работе. Реализация общего принципа отклонения дает тип отклонения, который осуществляется при помощи операторов: убавления, прибавления, переноса, замещения и расчленения. Эти операторы традиционно выделялись в риторике, но не подвергались детализации. Между тем в рамках первых трех принципов можно выделить разновидности. Убавление может быть представлено усечением и пропуском; прибавление – растяжением (удлинением, развертыванием) и совмещением: совмещением однотипных или одинаковых элементов – повтором; совмещением разных элементов, которое может быть как контактным (контаминация в широком смысле: наложение, 487
вставка, сращение), так и неконтактным (аттракцией). Перенос может быть синтагматическим (перестановка, смещение) или парадигматическим (семантическая транспозиция, конверсия). Изоморфизм операторов, реализующих различные отклонения, обеспечивает системность РП. Наличие синкретичных РП позволяет предположить полевый характер системы РП, обоснование которого во всех звеньях предъявленной системы предполагает самостоятельное исследование. Суждения лингвистики «…о свойствах языковой системы, большей частью (за вычетом малоинформативных универсалий) не претендуют на абсолютную точность. Но ограниченная ценность любого утверждения, любой лингвистической теории – это отнюдь не обязательно признак ее слабости. Слабость возникает только вместе с претензией на единственность, на монопольную достоверность» [Скребнев 1975: 169]. Такой претензии у нас нет.
488
БИБЛИОГРАФИЯ Агеев 2002 – Агеев В. Н. Семиотика. – М.: Изд-во «Весь мир», 2002. – 256 с. Адмони 1966 – Адмони В. Г. Размер предложения и словосочетания как явление синтаксического строя // Вопросы языкознания. – 1966. – № 4. – С. 11-118. Азарова 1981 – Азарова Л. В. Прием преуменьшения и его функции в современном английском языке: дис. … канд. филол. наук. – Л., 1981. – 166 с. Азнабаева 1999 – Азнабаева Л. А. Принципы речевого поведения адресата в конвенциональном общении: дис. … докт. филол. наук. – Уфа, 1999. – 308 с. Азнаурова 1977 – Азнаурова Э. С. Стилистический аспект номинации словом как единицей речи // Языковая номинация (Виды наименований). – М.: Наука, 1977. – С. 86-128. Алейникова 1991 – Алейникова Н. В. К вопросу об антропонимической норме английского языка // Единицы языка в функциональном аспекте: межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. М. Ф. Чикурова. – Тула: Тульск. гос. пед. ин-т им. Л. Н. Толстого, 1991. – С. 143-150. Алексеев 1977 – Алексеев П. М. Квантитативные аспекты речевой деятельности // Языковая норма и статистика: сб. ст. – М.: Наука, 1977. – С. 43-58. Алефиренко 2005 – Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 416 с. Анисимова 1987 – Анисимова Е. Е. Нормативность речи в аспекте коммуникативной лингвистики // Вопросы системной организации речи: сб. ст. / под ред. Н. К. Гарбовского. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – С. 3-9. Анисимова 1988 – Анисимова Е. Е. Коммуникативнопрагматические нормы // Филологические науки. – 1988. – № 6. – С. 64-69. Анисимова 1989 – Анисимова Е. Е. Об императивности и изменчивости текстовых норм // Функционирование системы языка в речи / под ред. Н. К. Гарбовского. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – С. 3-12. Анисимова, Гимпельсон 2002 – Анисимова Т. В., Гимпельсон Е. Г. Современная деловая риторика: учеб. пособие. – М.: Моск. 489
психолого-социальный ин-т; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2002. – 432 с. Аннушкин 1998 – Аннушкин В. И. История русской риторики. Хрестоматия: учеб. пособие для студ. гуманитарных факультетов вузов. – М.: Издат. центр «Академия», 1998. – 416 с. Аннушкин 2004а – Аннушкин В. И. М. В. Ломоносов и современное состояние риторики в России // Международная конференция «М. В. Ломоносов и развитие русской риторики» (М., 24 ноября 2004 г.): научное издание. – М., 2004. – С. 52. Аннушкин 2004б – Аннушкин В. И. Риторика и стилистика: учеб. пособие для студентов социально-экономического и юридического факультетов. – Часть I. – М.: Академия труда и социальных отношений, 2004. – 164 с. Антипов 2006 – Антипов А. Г. Функциональные типы производной лексики (к проблеме словообразовательных норм русского языка) // Филология – Журналистика 2006: сб. науч. ст., посвященных 25-летию факультета филологии и журналистики КрасГУ. – Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 2006. – С. 7-15. Античные теории… 1996 – Античные теории языка и стиля (Антология текстов). – СПб.: «Алетейя», 1996. – 341 с. Антоневич 2000 – Антоневич А. Ю. Феномен «уклонений от нормы» в прозе А. П. Чехова: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Иваново, 2000. – 22 с. Антонов 2003 – Антонов В. П. Отклонение // Язык, культура, коммуникация: аспекты взаимодействия. Научно-методический бюллетень / под ред. И. В. Пекарской. – Вып. 1. – Абакан: Изд-во Хакасского гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2003. – С. 249. Апресян 1990 – Апресян Ю. Д. Языковые аномалии: типы и функции // Res philologica. Филологические исследования. Памяти акад. Г. В. Степанова (1919-1986) / отв. ред. Д. С. Лихачев. – М., Л.: Наука, 1990. – С. 50-64. Апресян 1995 – Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. – 765 с. Апресян 1996 – Апресян Ю. Д. Понятие лингвистической модели // Русский язык в школе. – 1966. – № 1. – С. 3-14. Арнольд 2002 – Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык: учебник для вузов. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 383 с. 490
Артюшков 1981 – Артюшков И. В. Прерванные предложения в современном русском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 1981. – 14 с. Арутюнова 1987 – Арутюнова Н. Д. Аномалия и язык. К проблеме языковой «картины мира» // Вопросы языкознания. – 1987. – № 3. – С. 3-19. Арутюнова 1990 – Арутюнова Н. Д. От редактора // Логический анализ языка: противоречивость и аномальность текста / отв. ред. Н. Д. Арутюнова. – М.: Наука, 1990. – С. 3-9. Арутюнова 1998 – Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. – М.: «Языки русской культуры», 1998. – 896 с. Арутюнова 2004 – Арутюнова Н. Д. Истина. Добро. Красота: взаимодействие концептов // Логический анализ языка. Языки эстетики: концептуальные поля прекрасного и безобразного / отв. ред. Н. Д. Арутюнова. – М.: Индрик, 2004. – С. 5-29. Арутюнова, Падучева 1985 – Арутюнова Н. Д., Падучева Е. В. Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХVI. Лингвистическая прагматика. – М.: Прогресс, 1985. – С. 8-42. Архипов 1990 – Архипов И. К. Место исследований нормы в современной лингвистике // Нормы человеческого общения: тезисы докладов межвуз. науч. конф. – Горький: ГГПИИЯ им. Н. А. Добролюбова, 1990. – С. 3-4. Ахманова 1996 – Ахманова О. С. Лингвостилистика как языковедческая проблема («Стилистика речи» и «Стилистика языка») // О принципах и методах лингвостилистического исследования / Ахманова О. С., Натан Л. Н., Полторацкий А. И., Фатющенко В. И.; под ред. О. С. Ахмановой. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1966. – С. 161-180. Ахманова 2004 – Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 576 с. Бабайцева 1967 – Бабайцева В. В. Переходные конструкции в синтаксисе. – Воронеж: Воронежский гос. пед. ин-т, 1967. – 392 с. Бабенко 1997 – Бабенко Н. Г. Окказиональное в художественном тексте. Структурно-семантический анализ: учеб. пособие. – Калининград, 1997. – 81 с. Бабенко 2001 – Бабенко Н. Г. Идиостиль Валерии Нарбиковой: аномалия как норма // Структура текста и семантика языковых единиц: сб. научных трудов. – Калининград: Изд-во Калинингр. гос. унта, 2001. – С. 155-171. 491
Бабенко 2007 – Бабенко Н. Г. Грамматическая аномалия в современном художественном тексте: функционально-семантический анализ // Лингвистика и поэтика в начале третьего тысячелетия: материалы международной научной конференции (Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН. Москва, 24-28 мая 2007 г.). – М.: Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН, 2007. – С. 318-324. Баграмова 1998 – Баграмова Н. В. О некоторых ошибках в норме речи, вызванных интерференцией при обучении второму иностранному языку // Вопросы нормы и нормативности в реализации языковых средств: межвуз. сб. науч. тр. – Горький: ГГПИ им. М. Горького, 1988. – С. 137-143. Баева 2002 – Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение: учеб. пособие. – М.: Новое знание, 2002. – 368 с. Баевский 2001 – Баевский В. С. Синтаксический перенос (enjambement) как риторическая фигура-универсалия // Риторика в свете современной лингвистики. Тезисы докладов Второй межвузовской конференции (14-15 мая 2001 г.). – Смоленск: СГПУ, 2001. – С. 7-9. Байгина 2000 – Байгина С. И. Постулат в научном тексте (на материале математических текстов современного немецкого языка): дис. … канд. филол. наук. – Нижний Новгород, 2000. – 194 с. Баранов 1993 – Баранов А. Г. Функционально-прагматическая концепция текста / отв. ред. Т. Г. Хазагеров. – Ростов н/Д: Изд-во Ростовского ун-та, 1993. – 182 с. Баранов 2004 – Баранов А. Н. Предисловие редактора // Лакофф Джордж, Джонсон Марк. Метафоры, которыми мы живем: пер. с англ. / под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с. Бахтин 1979 – Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / сост. С. Г. Бочаров. – М.: Искусство, 1979. – С. 237-280. Безменова 1991 – Безменова Н. А. Очерки по теории и истории риторики. – М.: Наука, 1991. – 215 с. Безменова, Герасимов 1984 – Безменова Н. А., Герасимов В. И. Введение // Языковая деятельность в аспекте лингвистической прагматики: сб. обзоров. – М.: АН СССР, 1984. – С. 5-13. Бектаев и др. 1977 – Бектаев К. Б., Белоцерковская Л. И., Пиотровский Р. Г. Норма – ситуация – текст и лингвостатистические 492
приемы их исследования // Языковая норма и статистика: сб. ст. – М.: Наука, 1977. – С. 5-43. Бельчиков 2000 – Бельчиков Ю. А. Стилистика и культура речи. – М.: Изд-во УРАО, 2000. – 160 с. Береговская 1988 – Береговская Э. М. Структурное обновление фигур образности в художественном тексте // Актуальные проблемы романистики: сборник статей. – Смоленск: СГПУ, 1998. – 84 с. Береговская 1998 – Береговская Э. М. К проблеме грамматической метафоры // Четвертые Поливановские чтения: сборник научных статей по материалам докладов и сообщений. Ч. 4. Слово в тексте. – Смоленск, 1998. – С. 122-125. Береговская 2000 – Береговская Э. М. Градация как универсалия // Риторика ↔ Лингвистика 2: сборник статей. – Смоленск: СГПУ, 2000. – С. 134-144. Береговская 2003 – Береговская Э. М. По дороге от тропов к фигурам: реконсилия и каламбреден // Риторика ↔ Лингвистика. Вып. 4: сборник статей. – Смоленск: СГПУ, 2003. – С. 111-120. Береговская 2004а – Береговская Э. М. Материалы к словарю «Выразительные средства языка и речи». Катахреза // Риторика ↔ Лингвистика. Вып. 5: сборник статей. – Смоленск: СГПУ, 2004. – С. 54-60. Береговская 2004б – Береговская Э. М. Очерки по экспрессивному синтаксису. – М.: Рохос, 2004. – 208 с. Береговская, Верже 2000 – Береговская Э. М., Верже Ж.-М. Занятная риторика = Rhetorique amusante. – М., 2000. – 152 с. Березин, Головин 1979 – Березин Ф. М., Головин Б. Н. Общее языкознание: учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по спец. 2101 «Рус. яз. и лит.». – М.: Просвещение, 1979. – 416 с. Береля 2003 – Береля И. В. Многоуровневая системность стилистических норм и проблема типологизации речевых отклонений от них: дис. … канд. филол. наук. – Краснодар, 2007. – 203 с. Бисималиева 1999 – Бисималиева М. К. О понятиях «текст» и «дискурс» // Филологические науки. – 1999. – № 2. – С. 78-85. Блауберг, Юдин 1986 – Блауберг И. В., Юдин Б. Г. Системный подход как современное общенаучное направление // Диалектика и системный анализ / отв. ред. Д. М. Гвишиани. – М.: Наука, 1986. – С. 136-144. 493
Блинов 1980 – Блинов И. И. Синестезия в поэзии русских символистов // Проблема комплексности изучения художественного творчества. – Казань: Изд-во КГУ, 1980. – С. 119-124. Блинова 2003 – Блинова О. И. Прием объединения мотивационных сцепок // Художественный текст и языковая личность: материалы III Всерос. научной конференции, посвященной 10-летию кафедры современного русского языка и стилистики Томского государственного педагогического ун-та (29-30 октября 2003 г.) / под ред. Н. С. Болотновой. – Томск: Томск. гос. пед. ун-т, 2003. – С. 197-201. Богданова, Кочеткова 2001 – Богданова В. А., Кочеткова Т. В. Взаимодействие этических и коммуникативных норм // Хорошая речь / под ред. М. А. Кормилицыной и О. Б. Сиротининой. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2001. – С. 197-210. Боженкова 1998 – Боженкова Н. А. Стилистические фигуры и типологические аспекты исследования: автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 1998. – 17 с. Бойченко 1993 – Бойченко В. В. Индивидуально-авторские преобразования фразеологических единиц: автореф. дис. … канд. филол. наук. – СПб., 1993. – 16 с. Болинджер 1987 – Болинджер Д. Истина – проблема лингвистическая // Язык и моделирование социального взаимодействия: переводы / сост. В. М. Сергеева и П. Б. Паршина; общ. ред. В. В. Петрова. – М.: Прогресс, 1987. – С. 23-42. Болотнова 1992 – Болотнова Н. С. Коммуникативные универсалии и их лексическое воплощение в художественном тексте // Филологические науки. – 1992. – № 4. – С. 75-87. Болотнова 1999 – Болотнова Н. С. Основы теории текста: пособие для учителей и студентов-филологов педагогического университета. – Томск: Изд-во Томского пед. ун-та, 1999. – 100 с. Болотнова 2005 – Болотнова Н. С. О понятии «текстовая норма» в коммуникативной стилистике текста // Stylistyka ХIV. – Opole, 2005. – С. 87-100. Болотнова 2007 – Болотнова Н. С. Филологический анализ текста: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 520 с. Болотов 1985 – Болотов В. И. Проблемы теории эмоционального воздействия текста: дис. … докт. филол. наук. – Ташкент, 1985. – 402 с. Бондарко 1971 – Бондарко А. В. Грамматическая категория и контекст. – М.: Просвещение, 1971. – 115 с. 494
Борисенко 2007 – Борисенко Ю. И. Несколько замечаний о приеме гиперболы // Современная филология: актуальные проблемы, теория и практика: сб. материалов II междунар. науч. конф. / гл. ред. К. В. Анисимов. – Красноярск, 2007. – С. 49-51. Бочина 2002 – Бочина Т. Г. Контраст как лингвокогнитивный принцип русской пословицы: дис. … канд. филол. наук. – Казань, 2003. – 449 с. Брандес 1983 – Брандес М. П. Стилистика немецкого языка. – М.: Высш. шк., 1983. – 271 с. БСИС 2003 – Большой словарь иностранных слов. – М.: ЮНВЕС, 2003. – 784 с. БСЭ – Большая Советская Энциклопедия (В 30 томах). Т. 27 / гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: Сов. Энциклопедия, 1977. – 624 с. Будагов 1978 – Будагов Р. А. Система и антисистема в науке о языке // Вопросы языкознания. – 1978. – № 4. – С. 3-17. Будаев 2007 – Будаев Э. В. Становление когнитивной теории метафоры // Лингвокультурология. – Вып. 1. – Екатеринбург, 2007. – С. 16-32. Букина 1988 – Букина И. В. Синтаксическая девиация и ее текстовые функции // Проблемы лингвистического анализа текста. – Иркутск, 1988. – С. 82-86. Булыгина, Шмелев 1990 – Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Аномалии в тексте: проблемы интерпретации // Логический анализ языка: противоречивость и аномальность текста / отв. ред. Н. Д. Арутюнова. – М.: Наука, 1990. – С. 94-106. Булыгина, Шмелев 1997 – Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. – 576 с. Бурцев 1988 – Бурцев А. А. Поэтика фантастического в рассказах Г. Уэллса // Филологические науки. – 1988. – № 1. – С. 78-82. Бухаров 1984 – Бухаров В. М. Норма как социолингвистическая категория // Нормы реализации. Варьирование языковых средств: межвуз. сб. науч. тр. – Горький: Изд-во Горьк. гос. пед. ин-та им. М. Горького, 1984. – С. 48-53. Быкова 1999 – Быкова О. Н. Языковое манипулирование общественным сознанием: методическая разработка и рабочая программа для студентов заочного отделения юридического факультета / Краснояр. гос. ун-т; – Красноярск, 1999. – 64 с. 495
БЭС – Языкознание. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 685 с. Вавилова 2004 – Вавилова Л. Н. К проблеме эвфемизации художественной речи (на материале произведений Л. Улицкой) // Русская и сопоставительная филология: исследования молодых ученых. – Казань: Казан. гос. ун-т В. И. Ульянова-Ленина, 2004. – С. 2325. Валгина 2004 – Валгина Н. С. Теория текста: учебное пособие. – М.: Логос, 2004. – 280 с. Ванников 1972 – Ванников Ю. В. Синтаксис речи и синтаксические особенности русской речи. – М.: Изд-во «Русский язык», 1972. – 296 с. Василенко 1998 – Василенко Т. В. Типология русских риторик ХVIII – начала ХIХ века: дис. … канд. филол. наук. – Архангельск, 1998. – 237 с. Васильева 2000 – Васильева О. А. Реализация максим вежливости в английском и русском диалогах: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Уфа, 2000. – 24 с. Васильева и др. 1995 – Васильева Н. В., Виноградов В. А., Шахнарович А. М. Краткий словарь лингвистических терминов. – М.: Русс. яз., 1995. – 175 с. Василькова 1990 – Василькова Н. Н. Типология стилистических фигур в риториках и курсах словесности II пол. ХVIII – нач. ХIХ в.: автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 1990. – 20 с. Введенская, Павлова 1995 – Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Культура и искусство речи. Современная риторика. – Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 1995. – 576 с. Введенская, Павлова 2000 – Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Деловая риторика: учеб. пособие для вузов. – Ростов н/Д: Изд. центр «МарТ», 2000. – 512 с. Введенская и др. 2000 – Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для вузов. – Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 2000. – 544 с. Введенская, Павлова 2002 – Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Риторика для юристов. – Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 2002. – 576 с. Вейхман 1988 – Вейхман Г. А. Уровень текста // Филологические науки. – 1988. – № 2. – С. 65-69. 496
Вендина 2001 – Вендина Т. И. Введение в языкознание: учеб. пособие для педагогических вузов. – М.: Высш. шк., 2001. – 288 с. Вербицкая 1993 – Вербицкая Л. А. Давайте говорить правильно. – М.: Высш. шк., 1993. – 144 с. Ветвинская 1975 – Ветвинская Т. Л. Принцип «обманутого ожидания» как основа стилистического приема (на материале английского языка) // Исследования по романской и германской филологии. – Киев: «Вища школа», 1975. – С. 71-75. Виноградов 1996 – Виноградов С. И. Нормативный и коммуникативно-прагматический аспекты культуры речи // Культура русской речи и эффективность общения. – М.: Наука, 1996. – С. 121-152. Винокур 1974 – Винокур Т. Г. К вопросу о норме художественной речи // Синтаксис и норма. – М.: Наука, 1974. – С. 267-270. Винокур 1980 – Винокур Т. Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц. – М.: Наука, 1980. – 237 с. Винокур 1993 – Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. – М.: Наука, 1993. – 172 с. Власова 2000 – Власова Ю. Н. Симплока и цепной повтор в версификационном аспекте: строфическая организация стихов // Риторика ↔ Лингвистика 2: сборник статей. – Смоленск: СГПУ, 2000. – С. 126-134. Власова 2007 – Власова Ю. Н. Аккумуляция как разновидность грамматической метафоры // Риторика в свете современной лингвистики: тезисы докладов Пятой межвузовской конференции (4-5 июня 2007 г.). – Смоленск: СмолГУ, 2007. – С. 18-21. Водоватова 2007 – Водоватова Т. Е. Тавтологические высказывания: к проблеме смысла // Жанры речи: сб. науч. статей. – Саратов: Издат. центр «Наука», 2007. – Вып. 5. Жанр и культура. – С. 117-123. Волков 2001 – Волков А. А. Курс русской риторики. – М.: Издво храма св. муч. Татианы, 2001. – 480 с. Вольская 1999 – Вольская Н. Н. Стилистические функции звукового и морфологического повтора в автобиографической прозе М. И. Цветаевой // Филологические науки. – 1999. – № 2. – С. 45-53. Вольф 1972 – Вольф А. С. Эпитет как характерологическое средство в творчестве Л. Фейхтвангера // Филологические науки. – 1972. – № 2. – С. 55-65. Вомперский 1970 – Вомперский В. П. Стилистическое учение М. В. Ломоносова и теория трех стилей. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 210 с. 497
Вомперский 1988 – Вомперский В. П. Риторики в России ХVIIIХIХ вв. / отв. ред. акад. Н. И. Толстой. – М.: Наука, 1988. – 180 с. Ворожбитова 2000 – Ворожбитова А. А. Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты: дис. … докт. филол. наук. Т. I. – Краснодар, 2000. – 500 с. Воротников 2003 – Воротников Ю. Л. Имплицитная мера признака в русском языке // Проблемы функциональной грамматики. Семантическая инвариантность / вариативность. – СПб.: Наука, 2003. – С. 190-205. Всеволодова 1988 – Всеволодова М. В. Основания практической функционально-коммуникативной грамматики русского языка // Языковая системность при коммуникативном обучении: сб. ст. / под ред. Лаптевой О. А., Лобановой Н. А., Формановской Н. И. – М.: Русский язык, 1988. – С. 26-36. Гавранек 1967 – Гавранек Б. Задачи литературного языка и его культура // Пражский лингвистический кружок: сб. ст. / составление, редакция и предисловие Н. А. Кондрашова. – М.: Прогресс, 1967. – С. 338-377. Гак 1972 – Гак В. Г. К проблеме общих семантических законов // Общее и романское языкознание. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. – С. 144-157. Гак 2004 – Гак В. Г. Отображение сокровенного смысла // Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура: сб. статей в честь Н. Д. Арутюновой / отв. ред. Ю. Д. Апресян. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 489-496. Галеев 2004 – Галеев Б. М. Синестезия в мире метафор // Обработка текста и когнитивные технологии: материалы международной конф. – М.; Варна, 2004. – С. 33-42. – Режим доступа: http://synesthesia.prometheus.kai.ru/sinmet_r.htm, свободный. Галиб 1994 – Галиб А. Развитие концепции риторики в русской и французской филологии ХIХ в.: дис. … канд филол. наук. – М., 1994. – 173 с. Гальперин 1964 – Гальперин И. Р. Речевые стили и стилистические средства языка // Вопросы языкознания. – 1954. – № 4. – С. 7686. Гальперин 1978 – Гальперин И. Р. К проблеме необычных сочетаний слов // Проблемы общего и германского языкознания. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. – С. 71. 498
Гальперин 2004 – Гальперин И. Р. Информативность единиц языка: учеб. пособие для вузов. – М.: Изд-во УРСС, 2004. – 144 с. Ганеев 2004 – Ганеев Б. Т. Противоречия в языке и речи: монография. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2004. – 272 с. Гарбовская 2005 – Гарбовская Н. Б. Окказионализмы в прецедентном тексте // Язык как система и деятельность. – Ростов н/Д: Сигма, 2005. – С. 141-142. Гарбовский 1987 – Гарбовский Н. К. О функциональностилистической вариативности языка // Вопросы системной организации речи: сб. ст. / под ред. Н. К. Гарбовского. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – С. 9-25. Гаспаров 1997 – Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 1. О поэтах. – М.: Языки русской культуры, 1997. – 664 с. Гаузенблаз 1978 – Гаузенблаз К. О характеристике и классификации речевых произведений // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. Лингвистика текста / составление, общая редакция и вступит. статья Т. М. Николаевой. – М.: Прогресс, 1978. – С. 57-78. Гвоздарев 2005 – Гвоздарев Ю. А. Современный русский язык. Лексикология и фразеология: учебник для филологических факультетов университетов. – Ростов н/Д: ООО «Сигма», 2005. – 276 с. Гиндин 1995 – Гиндин С. И. Что знала риторика об устройстве текста? Часть 1. Риторическое учение о словесном выражении // Риторика: специализированный проблемный журнал. – М.: Изд-во «Лабиринт», 1995. – № 2. – С. 120-131. Глухов 1995 – Глухов В. М. Экспрессивно-стилистические особенности хиазма // Проблемы филологии и журналистики в аспекте новых общественных отношений: материалы всерос. науч. конф. Вып. 1. Проблемы экспрессивной стилистики. Ч. 1. – Ростов н/Д, 1995. – С. 58-59. Гойхман, Надеина 2001 – Гойхман О. Я., Надеина Т. М. Речевая коммуникация: учебник / под ред. проф. О. Я. Гойхмана. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 272 с. Голев, Ким 2007 – Голев Н. Д., Ким Л. Г. Амфиболическое (вариативно-интерпретационное) функционирование текста // Филологические науки. – 2007. – № 4. – С. 80-88. Головин 1980 – Головин Б. Н. Основы культуры речи: учеб. пособие. – М.: Высш. школа, 1980. – 335 с. Голод, Шахнарович 1985 – Голод В. И., Шахнарович А. М. Коммуникативные и когнитивные аспекты текста как единицы рече499
вой деятельности // Коммуникативные единицы языка: сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М. Тореза. – Вып. 252. – М., 1985. – С. 33-43. Голуб 1999 – Голуб И. Б. Стилистика русского языка. – М.: Рольф, 1999. – 448 с. Голуб, Розенталь 1997 – Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Книга о хорошей речи. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. – 268 с. Гольцова 1993 – Гольцова Н. Г. Окказиональность слова и окказиональность фразеологизма // Русский язык в школе. – 1993. – № 3. – С. 81-87. Горбачевич 1978 – Горбачевич К. С. Нормы современного русского литературного языка: пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1978. – 240 с. Гордон, Лакофф 1985 – Гордон Д., Лакофф Дж. Постулаты речевого общения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХVI. Лингвистическая прагматика. – М.: Прогресс, 1985. – С. 276-302. Горте 2007 – Горте М. А. Фигуры речи: терминологический словарь. – М.: ЭНАС, 2007. – 208 с. Горшков 1996 – Горшков А. И. Русская словесность: от слова к словесности: учеб. пособие для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 1996. – 336 с. Горшков 2001 – Горшков А. И. Русская стилистика: учеб. пособие. – М.: ООО «Изд-во Астрель»: ООО «Изд-во АСТ», 2001. – 367 с. Горячук – Горячук М. С. Речевые жанры как доказательство системности речи. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/nio/philoligia/gorjachuk.doc.htm, свободный. Грайс 1985 – Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХVI. Лингвистическая прагматика. – М.: Прогресс, 1985. – С. 217-237. Грановская 2004 – Грановская Л. М. Риторика / под общ. ред. В. А. Плотниковой. – М.: Азбуковник, 2004. – 218 с. Граудина 1977 – Граудина Л. К. Статистический критерий грамматической нормы // Языковая норма и статистика: сб. статей. – М.: Наука, 1977. – С. 135-173. Граудина 1996 – Граудина Л. К. Проблемы нормирования русского языка: реальность и прогнозы // Культура русской речи и эффективность общения. – М.: Наука, 1996. – С. 177-198. Граудина, Кочеткова 2001 – Граудина Л. К., Кочеткова Г. И. Русская риторика. – М.: Центрполиграф, 2001. – 669 с. 500
Граудина, Миськевич 1989 – Граудина Л. К., Миськевич Г. И. Теория и практика русского красноречия. – М.: Наука, 1989. – 256 с. Гречко 2003 – Гречко В. А. Теория языкознания: учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 2003. – 375 с. Григорьев, Григорьева 1990 – Григорьев В. А., Григорьева Т. И. Отклонение от нормы в русском и английском языках // Нормы человеческого общения: тезисы докладов межвуз. науч. конф. – Горький: ГГПИИЯ им. Н. А. Добролюбова, 1990. – С. 8-10. Гринберг 1987 – Гринберг Е. В. Стилистически отмеченные формы множественного числа существительных и их отношение к норме (на материале французского языка) // Норма и стилистическое варьирование: межвуз. сб. науч. тр. – Горький: ГПИ им. М. Горького, 1987. – С. 29-38. Гринина 1986 – Гринина Е. А. Грамматические и риторические понятия в средневековых трактатах Прованса и Каталонии: дис. … канд. филол. наук. – М., 1986. – 216 с. Гукасова 2000 – Гукасова Э. М. Система параметров блока терминоединиц «культура речи»: дис. … канд. филол. наук. – Краснодар, 2000. – 173 с. Гуревич 1999 – Гуревич Р. В. О функции аллегории в средневековых мистических текстах // Риторика в свете современной лингвистики: тезисы докладов межвузовской конференции (13-14 мая 1999 г.). – Смоленск: СГПУ, 1999. – С. 25. Гусарова 1999 – Гусарова Н. Д. Функции риторических фигур, основанных на разнопадежном повторе, в поэтическом тексте (фольклор и литература) // Риторика в свете современной лингвистики: тезисы докладов межвузовской конференции (13-14 мая 1999 г.). – Смоленск: СГПУ, 1999. – С. 26-27. Далецкий 2003 – Далецкий Ч. Риторика: заговори, и я скажу, кто ты: учеб. пособие. – М.: Омега-Л.; Высш. шк., 2003. – 488 с. Дамм 2003 – Дамм Т. И. Малоформатные комические речевые жанры современной российской газеты (лингвостилистический аспект): автореф. дис. … канд. филол. наук. – Кемерово, 2003. – 31 с. Даниленко 2005 – Даниленко В. П. Еще раз о грамматическом статусе лексикологии // Филологические науки. – 2005. – № 5. – С. 28-35. Дельская 2004 – Дельская Т. Ф. От риторики к стилистике. Полузабытые имена. Алексей Зиновьевич Зиновьев (1801-1884) // Международная конференция «М. В. Ломоносов и развитие русской ри501
торики»: научное издание. – М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2004. – С. 72-76. Демьянков 1982 – Демьянков В. З. Конвенции, правила и стратегии общения (интерпретирующий подход к аргументации) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 41. – 1982. – № 4. – С. 336. Демьянков 1984 – Демьянков В. З. О формализации прагматических свойств языка // Языковая деятельность в аспекте лингвистической прагматики: сб. обзоров. – М.: АН СССР, 1984. – С. 197-222. Дзякович 1994 – Дзякович Е. В. Стилистический аспект современной пунктуации. Экспрессивные пунктуационные приемы: автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 1994. – 20 с. Добровольский 1983 – Добровольский Д. О. Прагматические правила и фразеологическое значение // Сборник научных трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. Вып. 213. Проблемы прагмалингвистики. – М., 1983. – С. 3-11. Добровольский 2003 – Добровольский Д. О. Лексическая сочетаемость в диахронии (к динамике узуальных норм) // Русский язык сегодня. Вып. 2: сб. статей / отв. ред. Л. П. Крысин. – М.: Азбуковник, 2003. – С. 125-139. Долинин 1985 – Долинин К. А. Интерпретация текста: (фр. яз.). учеб. пособие для студ. по специальности № 2103 «Иностр. яз.». – М.: Просвещение, 1985. – 288 с. Дресслер 1978 – Дресслер В. Синтаксис текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. Лингвистика текста / составление, общая редакция и вступит. статья Т. М. Николаевой. – М.: Прогресс, 1978. – С. 111-137. Дымарский 2005 – Дымарский М. Я. Высказывание и коммуникативность // Проблемы функциональной грамматики. Полевые структуры. – СПб.: Наука, 2005. – С. 292-332. Дымшиц 2004 – Дымшиц М. Н. Манипулирование покупателем. – М.: Омега-Л., 2004. – 252 с. Дюбуа и др. 1986 – Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкенберг Ж. и др. Общая риторика: пер. с фр. Е. Э. Разлоговой, Б. П. Нарумова; общ. ред. и вступ. ст. А. К. Авеличева. – М.: Прогресс, 1986. – 391 с. Егорова 1985 – Егорова К. Л. О так называемом телескопическом словообразовании // Филологические науки. – 1985. – № 5. – С. 56-60. 502
Егорченко 2002 – Егорченко О. Н. К проблеме соотношения понятий «контраста» и «антитезы» в стилистике и риторике // Актуальные проблемы изучения языка и литературы: материалы Всерос. науч. конф., 25-27 ноября 2002, Абакан / отв. ред. И. П. Амзаракова. Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2002. – С. 134138. Егорченко 2006 – Егорченко О. Н. Стилистические фигуры контраста в современном русском литературном языке: семантикоструктурно-функциональная характеристика: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Барнаул, 2006. – 18 с. Еланский 1980 – Еланский Н. П. К проблеме сравнительной эффективности художественных систем жизнеподобия и условности: конспект лекций. – Калинин: Калининский гос. ун-т, 1980. – 36 с. Елисеев, Полякова 2002 – Елисеев И. А., Полякова Л. Г. Словарь литературоведческих терминов. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 320 с. Ермакова 2000 – Ермакова О. П. Семантические процессы в лексике // Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995). – М.: Языки русской культуры, 2000. – С. 32-66. Желтухина 2003 – Желтухина М. Р. Тропологическая суггестивность масс-медиального дискурса: о проблеме речевого воздействия тропов в языке СМИ: монография. – М.: Институт языкознания РАН; Волгоград: Изд-во ВФ МУПК, 2003. – 656 с. Женетт 1998а – Женетт Ж. Фигуры: в 2 т. / пер. с фр. – Т. 1. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. – 472 с. Женетт 1998б – Женетт Ж. Фигуры: в 2 т. / пер. с фр. – Т. 2. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. – 472 с. Жуланова 2000 – Жуланова Е. А. Обучение приему персонификации на уроке риторики // Риторическая культура в современном обществе: тезисы IV Междунар. конф. по риторике (26-28 янв. 2000 г.). – М., 2000. – С. 102-105. Зарецкая 1998 – Зарецкая Е. Н. Риторика: теория и практика речевой коммуникации. – М.: Дело, 1998. – 480 с. Засорина, Тисенко 1972 – Засорина Л. Н., Тисенко Э. В. Статистическая концепция языка Г. Хердана // Филологические науки. – 1972. – № 2. – С. 99-109. Захарова 1983 – Захарова О. И. Риторика и западноевропейская музыка ХVII – первой половины ХVIII века: принципы, приемы. – М.: Музыка, 1983. – 77 с. 503
Захарова 1999 – Захарова Е. П. Коммуникативная норма и речевые жанры // Жанры речи: сб. научных статей. – Саратов: Изд-во гос. учебно-научного центра «Колледж», 1999. – С. 76-81. Захарова 2001 – Захарова Е. П. Коммуникативные категории и нормы // Хорошая речь / О. Б. Сиротинина, Н. И. Кузнецова, Е. В. Дзякович и др.; под ред. М. А. Кормилицыной и О. Б. Сиротининой. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2001. – С. 163-179. Звегинцев 1976 – Звегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 307 с. Зеленецкий 1949 – Курсъ русской словесности для учащихся. I. Общая риторика. Сочинение Константина Зеленецкаго. – Одесса: Въ Типографiи Л. Нитче, 1949. – 138 с. Земская 1992 – Земская Е. А. Словообразование как деятельность. – М.: Наука, 1992. – 221 с. Земская 2000 – Земская Е. А. Активные процессы современного словопроизводства // Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995). – М.: «Языки русский культуры», 2000. – С. 90-141. Зенкин 1998 – Зенкин С. Преодоленное головокружение: Жерар Женетт и судьба структурализма // Женетт Ж. Фигуры: в 2-х т. – Т. 1. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. – С. 22-41. Зиновьева 1988 – Зиновьева А. Стилистическое значение, коммуникативно-прагматическая норма и контекст // Семантика языковых единиц и ее нейтрализация в тексте. – Курск: Курский ГПИ, 1988. – С. 59-66. Золина 1977 – Золина Н. Н. Полуотмеченные структуры и их стилистическая функция (на материале английского языка): дис. … канд. филол. наук. – Л., 1977. – 219 с. Золотова 2005 – Золотова Г. А. О чем говорит предложение // Мир русского слова. – 2005. – № 3-4. – С. 58-61. Зубкова 2002 – Зубкова Л. Г. Общая теория языка в развитии: учеб. пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2002. – 472 с. Зубова 2001 – Зубова Л. В. Сравнения в поэзии конца ХХ века // Риторика в свете современной лингвистики: тезисы докладов Второй межвузовской конференции (14-15 мая 2001 г.). – Смоленск: СГПУ, 2001. – С. 23-24. Иванов 2003 – Иванов Л. Ю. Постулаты речевого общения // Культура русской речи: энциклопедический словарь-справочник / под ред. Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева и др. – М.: Флинта: Наука, 2003. – С. 495-497. 504
Иванов 2004 – Иванов В. В. Лингвистика третьего тысячелетия: вопросы к будущему. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 208 с. Иванова 2007 – Иванова Ж. В. Графогибридизация как разновидность графической игры (на материале языка СМИ начала ХХI в.) // Языковая система и речевая деятельность: лингвокультурологический и прагматический аспекты. Выпуск I. Материалы междунар. науч. конф. – Ростов н/Д: НМЦ «Логос», 2007. – С. 191-193. Ивин 1973 – Ивин А. А. Логика норм. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973. – 122 с. Илюхина 2007 – Илюхина Н. А. Роль отношений смежности в механизме переноса определений // Языковая система и речевая деятельность: лингвокультурологический и прагматический аспекты. Вып. I. Материалы международной научной конференции. – Ростов н/Д: НМЦ «Логос», 2007. – С. 86-87. Ипполитова и др. 2004 – Ипполитова Н. А., Князева О. Ю., Савова М. Р. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. Н. А. Ипполитовой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 440 с. Исаев 1972 – Исаев И. Т. Системный метод // Методологические основы научного познания: учеб. пособие для ст-тов вузов / под ред. П. В. Попова. – М.: Высш. шк., 1972. – С. 255-263. Иссерс 1999 – Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи: автореф. дис. … доктора филол. наук. – Екатеринбург, 1999. – 29 с. Ицкович 1968 – Ицкович В. А. Языковая норма. – М.: Просвещение, 1968. – 94 с. Каверина 2000 – Каверина Н. Гомеотелевт как элемент системы синтаксических фигур // Scripta manent: сб. науч. работ студентов и аспирантов-филологов. – Вып. VI. – Смоленск, 2000. – С. 14-19. Карабан 1988 – Карабан В. И. Синтагматика / парадигматика речевых единиц и системность речи // Вестник Киевского университета. Романо-германская филология. – Вып. 22. – Киев: «Вища школа», 1988. – С. 19-22. Карабыков 2007 – Карабыков А. В. Аспекты развития жанровой системы речи // Системное и асистемное в языке и речи: материалы Международной научной конференции (Иркутск, 10-13 сентября 2007 г.) / под ред. М. Б. Ташлыковой. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2007. – С. 40-46. 505
Каракуц-Бородина 2007 – Каракуц-Бородина Л. А. Транслингвальная норма в произведениях В. В. Набокова // Системное и асистемное в языке и речи: материалы Международной научной конференции (Иркутск, 10-13 сентября 2007 г.) / под ред. М. Б. Ташлыковой. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2007. – С. 548-551. Каспранский 1990 – Каспранский Р. Р. Проблемы нормы и нормативности в языкознании // Проблемы нормы и вариативности в реализации высказывания: межвуз. сб. науч. тр. – Горький: ГГПИИЯ им. Н. А. Добролюбова, 1990. – С. 3-15. Кацук 2001 – Кацук Н. Л. Нулевая ступень // Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск: Интерпрессервис; Книжный дом, 2001. – С. 529-532. Квятковский 1998 – Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. – М.: Дрофа, 1998. – 464 с. Кемеров 1998 – Кемеров В. Е. Норма // Современный философский словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова. – Лондон, Франкфуртна-Майне, Париж, Люксембург, Москва, Минск: ПАНПРИНТ, 1998. – С. 579. Кириллова 2001 – Кириллова И. А. Сфера науки // Хорошая речь / О. Б. Сиротинина, Н. И. Кузнецова, Е. В. Дзякович и др.; под ред. М. А. Кормилицыной и О. Б. Сиротининой. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2001. – С. 69-84. Кириченко 1990 – Кириченко Н. В. Функционирование средств экспрессивного синтаксиса в текстовой структуре научнопопулярного произведения // Типология текста в функциональностилистическом аспекте: межвуз. сб. науч. тр. – Пермь: Перм. гос. ун-т им. А. М. Горького, 1990. – С. 47-57. Киселева 1970 – Киселева Р. А. Вопросы методики стилистических исследований в работах М. Риффатера // Вопросы теории английского и русского языков // Ученые записки Ленинградского пед. ин-та им. А. И. Герцена. – Т. 471. – Вологда, 1970. – 161 с. Кискина 2006 – Кискина М. В. Правила речевого поведения и образы языкового сознания // Актуальные проблемы психолингвистических исследований: сб. науч. тр. – М.: Изд-во МГОУ, 2006. – С. 126-132. Кифер 1985 – Кифер Ф. О роли прагматики в лингвистическом описании // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХVI. Лингвистическая прагматика. – М.: Прогресс, 1985. – С. 336-339. 506
Клубков 2002 – Клубков П. А. Говорите, пожалуйста, правильно. – СПб.: Норинт, 2002. – 192 с. Клюев 1999 – Клюев Е. В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция): учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во ПРИОР, 1999. – 272 с. Кобозева 1990 – Кобозева И. М. Прагмасемантическая аномальность высказывания и семантика модальных частиц // Логический анализ языка: противоречивость и аномальность текста / отв. ред. Н. Д. Арутюнова. – М.: Наука, 1990. – С. 194-203. Кобозева 2000 – Кобозева И. М. Лингвистическая семантика: учеб. пособие. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 352 с. Кобозева, Лауфер 1990 – Кобозева И. М., Лауфер Н. И. Языковые аномалии в прозе А. Платонова через призму процесса вербализации // Логический анализ языка: противоречивость и аномальность текста / отв. ред. Н. Д. Арутюнова. – М.: Наука, 1990. – С. 125-138. Ковтунова 1988 – Ковтунова И. И. Грамматическая многозначность в языке и речи // Русистика сегодня. Язык: система и ее функционирование / отв. ред. Ю. Н. Караулов. – М.: Наука, 1988. – С. 166-175. Кожевникова 2005 – Кожевникова О. С. О стилистических приемах, организуемых принципом противоречия, в современной российской газете // Современная филология: актуальные проблемы, теория и практика: сб. материалов междунар. науч. конф. Красноярск, 21-23 сентября 2005 г. / отв. ред. А. П. Сковородников. – Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 2005. – С. 118-123. Кожина 1972 – Кожина М. Н. О речевой системности научного стиля сравнительно с некоторыми другими: учеб. пособие. – Пермь: Перм. гос. ун-т им. А. М. Горького, 1972. – 395 с. Кожина 1993 – Кожина М. Н. Стилистика русского языка: учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1993. – 224 с. Колокольцева 1984 – Колокольцева Т. Н. Структурно незавершенные высказывания в русской разговорной речи: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Саратов, 1984. – 17 с. Колтунова 2007 – Колтунова М. В. Нормы конвенционального речевого поведения и практика их соблюдения в официальной деловой речи // Вопросы культуры речи / отв. ред. А. Д. Шмелев; Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. – М.: Наука, 2007. – Вып. 9. – С. 197-202. 507
Кондаков 1975 – Кондаков Н. И. Логический словарьсправочник. – М.: Наука, 1975. – 720 с. Константинова 1997 – Константинова С. К. Семантика олицетворения. – Курск: Изд-во КГПУ, 1997. – 112 с. Копнина 2000 – Копнина Г. А. К проблеме терминологии в области теории стилистических фигур // Вестник Красноярского университета. – 2000. – № 2. – С. 99-101. Копнина 2001а – Копнина Г. А. Конвергенция стилистических фигур в современном русском литературном языке (на материале художественных и газетно-публицистических текстов): дис. … канд. филол. наук. – Красноярск, 2000. – 289 с. Копнина 2001б – Копнина Г. А. Риторический и стилистический прием: к проблеме соотношения понятий // Актуальные проблемы языка и литературы на рубеже веков: материалы Всероссийской конференции, 25-27 сентября 2001 г. – Абакан: Хакасский гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова, 2001. – С. 16-17. Копнина 2004 – Копнина Г. А. Понятия и термины элокуции: проблема системного описания (на материале книги Т. Г. Хазагерова и Л. С. Шириной «Общая риторика: Курс лекций; Словарь риторичес-ких приемов») // Вестник Красноярского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2004. – № 4. – С. 38-41. Кормилицына 2007 – Кормилицына М. А. Синтаксические способы дезавторизации информации в современных СМИ // Вопросы культуры речи / отв. ред. А. Д. Шмелев; Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. – М.: Наука, 2007. – Вып. 9. – С. 243-249. Корнилова 1998 – Корнилова Е. Н. Риторика – искусство убеждать. Своеобразие публицистической античной эпохи: учеб. пособие. – М.: Изд-во УРАО, 1998. – 208 с. Корольков 1972 – Корольков В. И. Фигуры стилистические // Краткая литературная энциклопедия. – Т. 7. – М., 1972. – С. 948-951. Корольков 1973 – Корольков В. И. К теории фигур // Сб. науч. трудов. Вып. 78 / МГПИИЯ им. М. Тореза. – М., 1973 (1974). – С. 6093. Корчагина 1988 – Корчагина Т. Е. К проблеме текста как коммуникативной единицы и единицы общения // Языковая системность при коммуникативном обучении: сб ст. / под ред. Лаптевой О. А., Лобановой Н. А., Формановской Н. И. – М.: Русский язык, 1988. – С. 157-162. 508
Костомаров 1999 – Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. – СПб.: Златоуст, 1999. – 319 с. Костомаров 2005 – Костомаров В. Г. Наш язык в действии: очерки современной русской стилистики. – М.: Гардарики, 2005. – 287 с. Кохтев 1996 – Кохтев Н. Н. Риторика: учеб. пособие для учащихся 8-9 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 1996. – 207 с. Красникова 2004 – Красникова И. Р. Прагматика окказиональных антрополексем в современном русском языке: дис. … канд. филол. наук. – Ростов н/Д, 2004. – 154 с. Крейдлин 2004 – Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика: язык тела и естественный язык. – М.: Новое литературное обозрение, 2004. – 584 с. Кронгауз 2001 – Кронгауз М. А. Семантика: учебник для вузов. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. – 399 с. Кронгауз 2004 – Кронгауз М. А. Норма: семантический и прагматический аспекты // Сокровенные смыслы. Слово. Текст. Культура: сб. статей в честь Н. Д. Арутюновой / отв. ред. Ю. Д. Апресян. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 137-141. КРР 1998 – Культура русской речи: учебник для вузов / под ред. Л. К. Граудиной и Е. Н. Ширяева. – М.: Издат. группа НОРМАИНФРА. М., 1998. – 560 с. КРР 2003 – Культура русской речи: энциклопедический словарь-справочник / под ред. Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева и др. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 840 с. Крутт 2006 – Крутт А. И. Приемы нестандартного использования графических средств в печатной рекламе // Доклады молодых исследователей: сб. науч. ст. – Ростов н/Д: НМД «Логос», 2006. – С. 78-80. Кручинкина 2007 – Кручинкина Н. Д. Парадигма риторических фигур с алгоритмом переименования // Риторика в свете современной лингвистики: тезисы докладов Пятой межвузовской конференции (4-5 июня 2007 г.). – Смоленск: СмолГУ, 2007. – С. 57-60. Крылова 1979 – Крылова О. А. Основы функциональной стилистики русского языка: пособие для филологов-иностранцев. – М.: Рус. яз., 1979. – 224 с. 509
Крысин 1968 – Крысин Л. П. К соотношению системы языка и его нормы // Русский язык в школе. – 1968. – № 2. – С. 15-19. Крысин 1988 – Крысин Л. П. Гипербола в русской разговорной речи // Проблемы структурной лингвистики 1984. Сб. науч. тр. / отв. ред. В. П. Григорьев. – М.: Наука, 1988. – С. 95-111. Крысин 2000 – Крысин Л. П. Эвфемизмы в современной русской речи // Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995). – М.: Языки русской культуры, 2000. – С. 384-408. Крысин 2004 – Крысин Л. П. Языковая норма и речевая практика // Международная конференция «М. В. Ломоносов и развитие русской риторики»: научное издание. – М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2004. – С. 92-96. Крючкова 2004 – Крючкова О. Ю. Вопросы лингвистической трактовки лексической редупликации в русском языке // Русский язык в научном освещении. – № 2 (8). – М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 63-85. Кудрявцева 1988 – Кудрявцева Л. А. Метафорическое преобразование слова в современном русском языке // Филологические науки. – 1988. – № 5. – С. 62-66. Кузнецова 1983 – Кузнецова Э. В. Язык в свете системного подхода: учеб. пособие. – Свердловск: Изд-во УрГУ, 1983. – 96 с. Кузнецова 2001 – Кузнецова Н. И. Правильность речи // Хорошая речь / под ред. М. А. Кормилицыной и О. Б. Сиротининой. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2001. – С. 29-30. Кузнецова 2003 – Кузнецова А. А. Стилистические фигуры, построенные по принципу синтаксического параллелизма, в современном русском литературном языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Красноярск, 2003. – 33 с. Кузнецова 2005 – Кузнецова А. А. Повтор как синтагматический принцип организации стилистических фигур // Современная филология: актуальные проблемы, теория и практика: сб. материалов междунар. науч. конф. Красноярск, 21-23 сентября 2005 г. / отв. ред. А. П. Сковородников. – Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 2005. – С. 135-143. Кузнецова 2007 – Кузнецова А. А. О полевой организации стилистических фигур перестановки // Риторика в свете современной лингвистики: тезисы докладов Пятой межвузовской конференции (4-5 июня 2007 г.). – Смоленск: СмолГУ, 2007. – С. 61-64. 510
Кузнецова, Стрельникова 1976 – Кузнецова Т. И., Стрельникова И. П. Ораторское искусство в Древнем Риме. – М.: Наука, 1976. – 285 с. Курепин 2006 – Курепин С. В. Интенциональная вариантность грамматических форм имен современного русского языка: системный, функционально-прагматический и нормативный аспекты: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Ростов н/Д, 2006. – 19 с. Кустова 2004 – Кустова Г. И. Типы производных значений и механизмы языкового расширения. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 472 с. Кушнина 1989 – Кушнина Л. В. Транспозиция как речевой прием // Речевые приемы и ошибки: типология, деривация и функционирование: сб. науч. тр. – М., 1989. – С. 120-125. Лазуткина 1996 – Лазуткина Е. М. Культура речи среди других лингвистических дисциплин // Культура русской речи и эффективность общения. – М.: Наука, 1996. – С. 65-121. Лаптева 1996 – Лаптева О. А. Стилистические приемы создания языковой иронии в современном газетном тексте // Поэтика. Стилистика. Язык и культура. Памяти Татьяны Григорьевны Винокур. – М.: Наука, 1996. – С. 150-157. Лаптева 2000 – Лаптева О. А. Нейтрализация позиции слова как усилительный прием // Риторическая культура в современном обществе: тезисы IV Международной конференции по риторике (2628 января 2000 г.). – Москва: Гос. ин-т русского языка им. А. С. Пушкина, 2000. – С. 20-22. Лахманн 2001– Лахманн Р. Демонтаж красноречия. Риторическая традиция и понятие поэтического / пер. с нем. Е. Аккерман и Ф. Полякова. – СПб.: Академический проект, 2001. – 368 с. Лебединская 1992 – Лебединская В. А. Шельмование противника как риторический прием // Риторика в развитии человека и общества: тезисы научной конференции (13-18 янв. 1992 г.). – Пермь, 1992. – С. 57-62. Лейдерман 2005 – Лейдерман Н. Текст и образ // Мир русского слова. – 2005. – № 3-4. – С. 34-45. Лейчик 2003 – Лейчик В. М. По поводу фразеологической нормы публицистического стиля // Русский язык сегодня. Вып. 2. Сб. статей / РАН. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. Отв. ред. Л. П. Крысин. – М.: Азбуковник, 2003. – С. 183-188. 511
Лелёкина 2002 – Лелёкина А. Н. Алогизм как принцип организации экспрессивных средств русского языка // Актуальные проблемы изучения языка и литературы: материалы Всерос. науч. конф. (Абакан, 25-27 ноября 2002) / отв. ред. И. П. Амзаракова. – Абакан: Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2002. – С. 139-143. Леммерман 1998 – Леммерман Х. Учебник риторики. Тренировка речи с упражнениями: пер. с нем. – М.: АО «Интерэксперт», 1998. – 256 с. Лемяскина 2001 – Лемяскина Н. А. Использование риторических приемов первоклассниками // Профессиональная риторика: проблемы и перспективы. – Воронеж: ВГУ, 2001. – С. 61-62. Леонтьев 1979 – Леонтьев А. А. Высказывание как предмет лингвистики, психолингвистики и теории коммуникации // Синтаксис текста. – М.: Наука, 1979. – С. 18-36. Лесскис 1964 – Лесскис Г. А. О зависимости между размером предложения и его структурой в разных видах текста // Вопросы языкознания. – 1964. – № 3. – С. 92-112. Литвин 1990 – Литвин Ф. А. Характер нормы в связи с ее объектом // Нормы человеческого общения: тезисы докладов межвуз. науч. конф. – Горький: ГГПИИЯ им. Н. А. Добролюбова, 1990. – С. 14-15. ЛитЭС 1987 – Литературный энциклопедический словарь / под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. – М.: Сов. Энциклопедия, 1987. – 752 с. Ломоносов 1952 – Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится риторика, показующая общие правила обоего красноречия, т.е. оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки // М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений. Т. 7. Труды по филологии 1739-1758 гг. – М.: Изд-во Академии наук СССР; Ленинград, 1952. – С. 89-378. Ломтев 1976 – Ломтев Т. П. Общее и русское языкознание. Избранные работы. – М.: Наука, 1976. – 383 с. Лосева и др. 1997 – Лосева И. Н., Капустин Н. С., Кирсанова О. Т., Тахтамышев В. Г. Мифологический словарь. – Ростов н/Д: Феникс, 1997. – 576 с. Лотман 1995 – Лотман Ю. М. Риторика // Риторика: специализированный проблемный журнал. – М.: Изд-во «Лабиринт», 1995. – № 2. – С. 92-108. 512
Лотман 1997 – Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология / под ред. проф. В. П. Нерознака. – М.: Асаdemia, 1997. – С. 202-121. Лотман и школа 1994 – Лотман Ю. М. и тартуско-московская семиотическая школа. – М.: Гнозис, 1994. – 560 с. Лужановский 1987 – Лужановский А. В. Реалистический критерий художественной достоверности и развитие рассказа // Факт, домысел, вымысел в литературе: межвуз. сб. науч. тр. – Иваново, 1987. – С. 138-156. Лызлов 2005 – Лызлов А. И. Оценка и норма в паремических высказываниях // Риторика ↔ Лингвистика. Вып. 6: сб. статей. – Смоленск: СГПУ, 2005. – С. 325-334. Лыков 1977– Лыков А. Г. Окказионализм и языковая норма // Грамматика и норма: сб. ст. – М.: Наука, 1977. – С. 62-83. Львов 2000 – Львов М. Р. Основы теории речи: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 248 с. Львов 2003 – Львов М. Р. Риторика. Культура речи: учеб. пособие для студентов гуманит. факультетов вузов. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 272 с. Мажар 2005 – Мажар Е. Н. Аффективно-манипулятивный компонент ораторской речи (на материале английского языка): автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2005. – 23 с. Макаров 1990 – Макаров М. П. Групповые нормы в официальном и неофициальном общении // Нормы человеческого общения: тезисы докладов межвуз. науч. конф. – Горький: ГГПИИЯ им. Н. А. Добролюбова, 1990. – С. 79-81. Манчинова 1988 – Манчинова Н. В. Деривация и функционирование гипаллаги в поэтическом тексте: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Пермь, 1998. – 19 с. Маркасова 1999 – Маркасова Е. В. Представления о поэтических вольностях в русских риториках ХVII в. // Риторика в свете современной лингвистики: тезисы докладов межвузовской конференции (13-14 мая 1999 г.). – Смоленск: СГПУ, 1999. – С. 53-55. Маркасова 2002 – Маркасова Е. В. Теория фигур речи в русских риториках ХVII – начала ХVIII вв.: дис. … докт. филол. наук. – СПб., 2002. – 254 с. 513
Мартьянова 2002 – Мартьянова И. А. Основы риторики: пособие-хрестоматия для старшеклассников. – СПб.: Сова; М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 288 с. Маслов 1997 – Маслов Ю. С. Введение в языкознание: учеб. для филол. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1997. – 272 с. Маслова 1992 – Маслова В. А. Онтологические и психолингвистические аспекты экспрессивности текста: дис. … докт. филол. наук. – Минск, 1992. – 451 с. Маслова 2000 – Маслова В. А. Символ в философии языка и в русской поэзии // Риторика ↔ Лингвистика 2: сборник статей. – Смоленск: СГПУ, 2000. – С. 5-18. Маслова 2004 – Маслова В. А. Когнитивная лингвистика: учеб. пособие. – Мн.: ТетраСистемс, 2004. – 256 с. Маслоу 1999 – Маслоу А. Г. Мотивация и личность / пер. с англ. Татлыбаевой А. М. – СПб.: Евразия, 1999. – С. 351. Матвеева 1991 – Матвеева Т. В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий: дис. … докт. филол. наук. – Свердловск, 1991. – 450 с. Матвеева 2000 – Матвеева Т. В. Вопрос об ортологии текста // Культурно-речевая ситуация в современной России: вопросы теории и образовательных технологий: тезисы докладов Всерос. научнометодич. конференции: Екатеринбург, 19-21 марта 2000 г. / под ред. И. Т. Вепревой. – Екатеринбург: УрГУ, 2000. – С. 122-124. Матвеева 2003 – Матвеева Т. В. Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, риторика. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 432 с. Матвеева 2004 – Матвеева Г. Г. Системность речи. – Режим доступа: http://rspu.edu.ru/projects/deutch/note49.html, свободный. Медникова 1979 – Медникова Э. М. Сочетаемость слов и соотношение «норма языка – норма речи» (на материале русского и английского языков) // Сб. науч. тр. МГПИИЯ. Вып. 145. Проблемы сочетаемости слов. – М., 1979. – С. 32-37. Мельчук 1999 – Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл ↔ Текст». – М.: Школа «Языки русской культуры», 1999. – 346 с. Мерзлякова 2001 – Мерзлякова А. Х. Типология адъективной метафоры // Лингвистические исследования: к 75-летию проф. В. Г. Гака. – Дубна: Феникс, 2001. – С. 104-116. 514
Мерлин 1990 – Мерлин В. В. Самоотрицание текста (К семантике поэтической концовки) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. – Т. 49. – 1990. – № 1. – С. 3-15. Мечковская 2000 – Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика: пособие для студентов гуманит. вузов и учащихся лицеев. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 207 с. Мечковская 2004 – Мечковская Н. Б. Эстетические оценки языка и речи: генезис, диапазон, тенденции // Логический анализ языка. Языки эстетики: концептуальные поля прекрасного и безобразного / отв. ред. Н. Д. Арутюнова. – М.: Индрик, 2004. – С. 354-368. Микешина 2005 – Микешина Л. А. Философия науки: современная эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования: учеб. пособие. – М.: ПрогрессТрадиция: МПСИ: Флинта, 2005. – 464 с. Миськевич 1977 – Миськевич Г. И. К вопросу о норме в словообразовании // Грамматика и норма: сб. ст. – М.: Наука, 1977. – С. 4261. Михайличенко 1994 – Михайличенко Н. А. Риторика: учеб. пособие для учащихся гимназий, лицеев и школ гуманитарного профиля. – М.: Новая шк., 1994. – 96 с. Михальская 1996а – Михальская А. К. Основы риторики: мысль и слово: учеб. пособие для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 1996. – 416 с. Михальская 1996б – Михальская А. К. Русский Сократ: лекции по сравнительно-исторической риторике: учеб. пособие для студентов гуманит. фак-тов. – М.: Изд. центр «Асаdemia», 1996. – 192 с. Михальская 1998а – Михальская А. К. Педагогическая риторика: история и теория: учеб. пособие для студ. пед. ун-тов и ин-тов. – М.: Издат. центр «Академия», 1998. – 432 с. Михальская 1998б – Михальская А. К. Коммуникативноречевой прием (риторический прием) // Педагогическое речеведение. Словарь-справочник / под ред. Т. А. Ладыженской и А. К. Михальской; сост. А. А. Князьков. – М.: Флинта: Наука, 1998. – С. 87-88. Михель 1980 – Михель Г. Основы теории стиля // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. IХ. Лингвостилистика. – М.: Прогресс, 1980. – С. 271-298. Мицич 1983 – Мицич П. Как проводить деловые беседы. – М.: Экономика, 1983. – 207 с. 515
Можейко 2001 – Можейко М. А. Симулякр // Постмодернизм. Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. – С. 727-729. Молотков 1966 – Молотков А. И. Некоторые особенности употребления фразеологизмов в современном русском языке // Нормы современного русского литературного словоупотребления / отв. ред. Г. А. Качевская и К. С. Горбачевич. – М., Л.: Наука, 1966. – С. 92-110. Мороховская 1988 – Мороховская Э. Я. Основные характеристики риторических операторов // Риторика и синтаксические структуры: тезисы докладов и сообщений краевой научно-практич. конф. Красноярск: КрасГУ, 1988. – С. 34-38. Мороховский и др. 1991 – Мороховский А. Н., Воробьева О. П., Лихошерст Н. И., Тимошенко З. В. Стилистика английского языка: учебник. – Киев: Выща шк., 1991. – 270 с. Морфология… 1968 – Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка. – М.: Наука, 1968. – 367 с. Москвин 1999 – Москвин В. П. Эвфемизмы в лексической системе современного русского языка. – Волгоград, 1999. – 42 с. Москвин 2000 – Москвин В. П. Стилистика русского языка: приемы и средства выразительной и образной речи (общая классификация): пособие для студентов. – Волгоград: Учитель, 2000. – 198 с. Москвин 2005 – Москвин В. П. К соотношению понятий «речевой жанр», «текст» и «речевой акт» // Жанры речи: сб. науч. статей. – Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2005. – Вып. 4. Жанр и концепт. – С. 63-76. Москвин 2006а – Москвин В. П. Выразительные средства современной русской речи: тропы и фигуры. Общая и частные классификации. Терминологический словарь. – М.: ЛЕНАНД, 2006. – 376 с. Москвин 2006б – Москвин В. П. Стилистика русского языка. Теоретический курс. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 630 с. Москвин 2006в – Москвин В. П. Художественный стиль как система // Филологические науки. – 2006. – № 2. – С. 65-73. Мукаржовский 1994 – Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства: пер. с чешск. – М.: Искусство, 1994. – 606 с. 516
Мурзин 1989 – Мурзин Л. Н. Норма, речевой прием и ошибка с динамической точки зрения // Речевые приемы и ошибки. Типология, деривация, функционирование: сб. науч. тр. – М.: Ин-т языкознания, 1989. – С. 5-14. Мустайоки 1988 – Мустайоки А. О предмете и цели лингвистических исследований // Язык: система и функционирование: сб. науч. тр. / отв. ред. Ю. Н. Караулов. – М.: Наука, 1988. – С. 170-181. Мыркин 1998 – Мыркин В. Я. Всегда ли языковая норма соотносится с языковой системой? // Филологические науки. – 1998. – № 3. – С. 22-30. Неориторика… 1987 – Неориторика: генезис, проблемы, перспективы. Сборник научно-аналитических обзоров / отв. ред. Безменова Н. А. – М.: ИНИОН, 1987. – 213 с. Нестерова 1988 – Нестерова К. И. Стилистический прием повтора в советской прозе // Филологические науки. – 1988. – № 2. – С. 8-14. Никитина 1990 – Никитина А. Х. Синтаксические конструкции с антиципацией как экспрессивное средство современного русского литературного языка: дис. … канд. филол. наук. – Красноярск, 1990. – 160 с. Никитина, Васильева 1996 – Никитина С. Е., Васильева Н. В. Экспериментальный системный толковый словарь стилистических терминов. Принципы составления и избранные словарные статьи. М.: Б. и., 1996. – 172 с. Николаев 1985 – Николаев С. Г. Что такое хухры-мухры // Русская речь. – 1985. – № 4. – С. 141-146. Николаев 1988 – Николаев С. Г. Экспрессивные двухкомпонентные единицы со значением эллиптической плюральности в русском языке // Филологические науки. – 1988. – № 6. – С. 73-75. Николаев 1992 – Николаев С. Г. О трех забытых фигурах речи // Проблемы экспрессивной стилистики. Вып. 2 / отв. ред. Т. Г. Хазагеров. – Ростов н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1992. – С. 93-97. Николаева 1990 – Николаева Т. М. О принципе «некооперации» и/или о категориях социолингвистического воздействия // Логический анализ языка: противоречивость и аномальность текста / отв. ред. Н. Д. Арутюнова. – М.: Наука, 1990. – С. 225-235. Николаева 1998 – Николаева Т. М. Металингвистический фразеологизм – новый прием поэтики текста // Лики языка. К 45-летию 517
науч. деятельности Е. А. Земской / отв. ред. М. Я. Гловинская. – М.: Наследие, 1998. – С. 259-263. Николина 2003 – Николина Н. А. Новые тенденции в современном русском словотворчестве // Русский язык сегодня. Вып. 2. Сб. статей / отв. ред. Л. П. Крысин. – М.: Азбуковник, 2003. – С. 376-387. Николина 2007 – Николина Н. А. Сегментация слова в современных текстах // Вопросы культуры речи / отв. ред. А. Д. Шмелев. – М.: Наука, 2007. – Вып. 9. – С. 217-226. Новикова 1985 – Новикова Ю. Г. О степени окказиональности фразеологизмов в газетном тексте // Стилистические функции единиц разных уровней языка: межвуз. сб. науч. тр. – Красноярск: Краснояр. гос. пед. ин-т, 1985. – С. 79-122. Новикова 2006 – Новикова Н. С. Коммуникативная норма и лингвистические проблемы межкультурной коммуникации // Филологические науки. – 2006. – № 2. – С. 93-100. Ножин 1989 – Ножин Е. А. Мастерство устного выступления. – М.: Политиздат, 1989. – 255 с. Норман 1994 – Норман Б. Ю. Грамматика говорящего. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1994. – 228 с. Норман 2006 – Норман Б. Ю. Игра на гранях языка. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 344 с. Общая реторика 1844 – Общая реторика, Н. Кошанскаго. – Изд. 9. – Санктпетербургъ: Въ Типографiи Департамента Военныхъ Поселенiй, 1844. – 106 с. Общее языкознание 1970 – Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка / отв. ред. Б. А. Серебренников. – М.: Наука, 1970. – 566 с. Овсянников 1980 – Овсянников В. В. Индикация комического эффекта в ситуативном контексте // Стилистика художественной речи: межвуз. сб. науч. тр. – Л.: ЛГПИ, 1980. – С. 62-67. Опыт риторики… 1809 – Опытъ риторики, сочиненный и нынѣ вновь исправленный и пополненный Иваномъ Рижскимъ. – Изд. 3. – М.: Въ Университетской Типографiи, 1809. – 381 с. Осетрова 2002 – Осетрова Е. В. Модус неопределенности в текстах современных СМИ // Речевое общение: специализированный вестник / под ред. А. П. Сковородникова. Вып. 4 (12). – Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 2002. – С. 84-90. 518
Основы… 1980 – Основы ораторского мастерства: (курс лекций) / Т. Б. Маркичева, З. М. Кардашенко, Е. А. Адамов и др.; редкол.: Е. Н. Тарасов (руководитель) и др. – М.: Мысль, 1980. – 236 с. Оспарина 2000 – Оспарина Е. О. Исследование метафоры в последней трети ХХ века // Лингвистические исследования в конце ХХ в.: сб. обзоров. – М.: ИНИОН РАН, 2000. – 216 с. Очерки… 1994 – Очерки истории языка русской поэзии ХХ века: тропы в индивидуальном стиле и поэтическом языке. – М.: Наука, 1994. – 271 с. Падучева 1982 – Падучева Е. В. Тема языковой коммуникации в сказках Льюиса Кэрролла // Семиотика и информатика: сб. статей: вып. 18 / ред. Т. Н. Лаппалайнен. – М.: ВИНИТИ, 1982. – С. 76-119. Падучева 2002 – Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений). – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 288 с. Падучева 2003 – Падучева Е. В. Глаголы восприятия: опыт выявления структуры тематического класса // Проблемы функциональной грамматики. Семантическая инвариантность/вариативность: научное издание. – СПб.: Наука, 2003. – С. 75-100. Падучева 2004 – Падучева Е. В. Метафора и ее родственники // Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура: сб. статей в честь Н. Д. Арутюновой / отв. ред. Ю. Д. Апресян. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 187-203. Панов 2004 – Панов М. В. Позиционные чередования в лексике // Семиотика, лингвистика, поэтика: к столетию со дня рожд. А. А. Реформатского. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 449-452. Пауль 2004 – Пауль Г. Принципы истории языка. Глава V. Аналогия // Лингвистика ХХ века: система и структура языка: хрестоматия. Ч. II / сост. Е. А. Красина. – М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2004. – С. 46-54. Пацула 2005 – Пацула Ю. Н. Окказионализмы новейшего времени: структурно-семантический и функционально-прагматический аспекты: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Ростов н/Д, 2005. – 24 с. Пекарская 1999 – Пекарская И. В. Конструкции синтаксической контаминации как экспрессивное средство современного русского языка. Учебно-методическое пособие и Системный словарь519
справочник. – Абакан: Изд-во Хакасского гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 1999. – 152 с. Пекарская 2000а – Пекарская И. В. Контаминация в контексте проблемы системности стилистических ресурсов русского языка. Часть I. – Абакан: Изд-во Хакасского гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2000. – 247 с. Пекарская 2000б – Пекарская И. В. Контаминация в контексте проблемы системности стилистических ресурсов русского языка. Часть II. – Абакан: Изд-во Хакасского гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2000. – 344 с. Пекарская 2000в – Пекарская И. В. Силлепсис, снятие, солецизм, зевгма, анаколуф (к проблеме терминологической точности в системе стилистических фигур) // Речевое общение: Вестник Российской риторической ассоциации / под ред. А. П. Сковородникова. – Вып. 1 (9). – Красноярск, 2000. – С. 67-77. Пекарская 2002 – Пекарская И. В. Типологическая характеристика элокутивных средств: опыт системной классификации // Актуальные проблемы изучения языка и литературы: материалы Всерос. науч. конф., 25-27 ноября 2002, Абакан / отв. ред. И. П. Амзаракова. – Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2002. – С. 25-30. Пекарская 2003 – Пекарская И. В. Особенности функционирования современного русского языка: к проблеме системного описания тропов // Культура речевого общения в образовательных учреждениях разных уровней: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (8-10 окт. 2002 г., г. Ачинск) / под ред. А. П. Сковородникова. – Красноярск: КрасГУ, 2003. – С. 78-85. Пекарская, Амзаракова 2003 – Пекарская И. В., Амзаракова И. П. Межкультурный контекст проблемы системного описания тропов (на материале русского и немецкого языков) // Вестник Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. Серия 5. Филология: Языкознание. Вып. 5; Серия 6. Филология: Литературоведение. Вып. 2 / отв. ред. Пекарская И. В. – Абакан: Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2003. – С. 81-86. Перельман, Ольбрехт-Тытека 1987 – Перельман Х., ОльбрехтТытека Л. Из книги «Новая риторика: трактат об аргументации». Пер. с фр. Т. Л. Ветошкиной // Язык и моделирование социального взаимодействия. – М.: Прогресс, 1987. – С. 207-265. 520
Петрова 2004а – Петрова А. Г. Норма русского литературного языка и живая речь носителей русского языка на рубеже веков (ХХХХI вв.): дис. … канд. филол. наук. – М., 2004. – 212 с. Петрова 2004б – Петрова Л. А. Семантические девиации в художественном тексте (на материале рассказов Н. А. Тэффи) // Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как национального: материалы III Междунар. науч.метод. конф. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – С. 227-229. Петрунина 2003 – Петрунина С.П. «Весь поэт на одном тире держится…» (о пунктуации художественного текста) // Художественный текст и языковая личность: материалы III Всерос. науч. конф., посвященной 10-летию кафедры современного русского языка и стилистики Томского государственного педагогического университета (29-30 октября 2003 г.) / под ред. Н. С. Болотновой. – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2005. – С. 247-251. Пешель 1981 – Пешель М. Моделирование сигналов и систем / пер. с нем.; под ред. Я. И. Хургина. – М.: Мир, 1981. – 300 с. Пивоваров 1998 – Пивоваров Д. В. Связь // Современный философский словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова. – Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, Люксембург, Москва, Минск / «ПАНПРИНТ», 1998. – С. 769-771. Плетт 1979 – Плетт Г. Теория и анализ текста: лингвистика, семиотика, риторика. – Гейдельберг, 1979. Плещенко и др. 2001 – Плещенко Т. П. Стилистика и культура речи: учеб. пособие / Т. П. Плещенко, Н. В. Федотова, Р. Г. Чечет; под ред. П. П. Шубы. – Минск: НТООО «Тетра Системс», 2001. – 544 с. ПЛК 1967 – Пражский лингвистический кружок: сб. ст. / составление, редакция и предисловие Н. А. Кондрашова. – М.: Прогресс, 1967. – 559 с. Плотникова 2005 – Плотникова С. Н. Концептуальный стандарт жанра фэнтези // Жанры речи: сб. науч. статей. – Саратов: Издво ГосУНЦ «Колледж», 2005. Вып. 4. Жанр и концепт. – С. 273-279. Покровская 1992 – Покровская Е. А. Эллипсис авторской ремарки при прямой речи как экспрессивное средство современной художественной прозы // Проблемы экспрессивной стилистики. Вып. 2 / отв. ред. Т. Г. Хазагеров. – Ростов н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1992. – С. 115-123. 521
Полторацкий 1975 – Полторацкий А. И. Английская терминология лингвистической стилистики: дис. … канд. филол. наук. – М., 1975. – 230 с. Полторацкий 1991 – Полторацкий А. И. Риторические алогизмы: перенесение эпитета в англоязычной художественной речи // Логический анализ языка. Культурные концепты. – М.: Наука, 1991. – С. 139-194. Полынкин 1990 – Полынкин В. А. О некоторых правилах межличностного общения // Нормы человеческого общения: тезисы докладов межвуз. науч. конф. – Горький: ГГПИИЯ им. Н. А. Добролюбова, 1990. – С. 114-116. Пономаренко 2006 – Пономаренко Е. В. Системный подход как методологическая основа изучения речевой деятельности // Вестник СамГУ. – 2006. – № 1 (41). – С. 134-138. Попов 1960 – Попов А. С. Номинативные предложения и сходные с ними по форме синтаксические конструкции в современном русском литературном языке: автореф. дис. …канд. филол. наук. – М., 1960. – 20 с. Порубов 2001 – Порубов Н. И. Риторика: учеб. пособие. – Минск: Высш. шк., 2001. – 384 с. Постникова 1974 – Постникова И. И. Олицетворение // Русская речь. – 1974. – № 4. – С. 68-70. Поцелуевский 1974 – Поцелуевский Е. А. Нулевая степень качества и описание значения качественных прилагательных и некоторых сочетаний с ними // Проблемы семантики: сб. ст. / отв. ред. В. М. Солнцев. – М.: Наука, Гл. ред. восточной культуры, 1974. – С. 229-247. ПР 1998 – Педагогическое речеведение. Словарь-справочник / под ред. Т. А. Ладыженской, А. К. Михальской; сост. А. А. Князьков. М.: Флинта, Наука, 1998 – 308 с. Припадчев 2006 – Припадчев А. А. Теоретические основы исследования речевой системности текста: автореф. дис. … докт. филол. наук. – Воронеж, 2006. – 40 с. – Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/announcements/filolog/pripadchevAA.doc, свободный. Прокопчук 2007 – Прокопчук О. Г. Катахреза и металепсис как тропы метафорической группы в трактате Георгия Хировоска «О поэтических тропах» (VI в.) // Риторика в свете современной лингвис522
тики: тезисы докладов Пятой межвузовской конференции (4-5 июня 2007 г.). – Смоленск: СмолГУ, 2007. – 180 с. Пронина 2002 – Пронина Е. Е. Девиантная реклама // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2002. – № 3. – С. 43-53. Пужилова 2006 – Пужилова О. Л. Антифразис в газетных текстах // Речевое общение: специализированный вестник / Краснояр. гос. ун-т; под ред. А. П. Сковородникова. – Вып. 8-9 (16-17). – Красноярск, 2006. – С. 216-220. Радбиль 2005 – Радбиль Т. Б. Норма и аномалия в парадигме «реальность – текст» // Филологические науки. – 2005. – № 1. – С. 53-63. Радбиль 2006 – Радбиль Т. Б. Языковые аномалии в художественном тексте: Андрей Платонов и другие: монография. – М.: МПГУ, 2006. – 320 с. Разлогова 2003 – Разлогова Е. Э. Антифраза и литота в модальных контекстах (опыт русско-французского сопоставительного анализа) // Риторика в свете современной лингвистики: тезисы докладов Четвертой межвузовской конференции (6-7 июня 2005 г.). – Смоленск: СГПУ, 2003. – С. 78-79. Ревзин 1977 – Ревзин И. И. Современная структурная лингвистика. Проблемы и методы. – М.: Наука, 1977. – 263 с. Ревзина, Ревзин 1971 – Ревзина О. Г., Ревзин И. И. Семиотический эксперимент на сцене // Ученые записки Тартуского гос. университета. Труды по знаковым системам. V. – Тарту, 1971. – С. 232254. Ризель 1973 – Ризель Э. Г. Стилистика и языковостилистические нормы в свете науки об обществе // Сб. науч. тр. Вып. 73 / МГПИИЯ им. М. Тореза. – М., 1973. – С. 72-80. Риффатер 1980 – Риффатер М. Критерии стилистического анализа // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. IХ. Лингвостилистика. – М.: Прогресс, 1980. – С. 69-96. Родин 2005 – Родин П. С. Новые явления синтаксической организации предложения, сверхфразового единства и текста в русской художественной литературе неклассической парадигмы: лингвокультурологический анализ: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Ростов н/Д, 2005. – 34 с. Рождественский 1997 – Рождественский Ю. В. Теория риторики. – М.: Добросвет, 1997. – 596 с. 523
Розенталь 1998 – Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка. – М.: ООО «Изд-во АСТ-ЛТД», 1998. – 384 с. Роль… 1988 – Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др. – М.: Наука, 1988. – 216 с. Романова 2007 – Романова И. В. Коммуникативная функция синтаксического переноса // Риторика в свете современной лингвистики: тезисы докладов Пятой межвузовской конференции (4-5 июня 2007 г.). – Смоленск: СмолГУ, 2007. – С. 133-135. Романова, Филиппов 2006 – Романова Н. Н., Филиппов А. В. Стилистика и стили: учеб. пособие; словарь. – М.: Флинта: МПСИ, 2006. – 416 с. Ромашко 1984 – Ромашко С. А. Язык как деятельность и лингвистическая прагматика // Языковая деятельность в аспекте лингвистической прагматики: сб. обзоров. – М.: АН СССР, 1984. – С. 137-145. Русецкая 1990 – Русецкая Л. А. О роли литературной и речевой нормы в формировании австралийского национального варианта английского языка и специфике речевого общения // Нормы человеческого общения: тезисы докладов межвуз. науч. конф. – Горький: ГГПИИЯ им. Н. А. Добролюбова, 1990. – С. 227-228. Русова 2004 – Русова Н. Ю. От аллегории до ямба: терминологический словарь-тезаурус по литературоведению. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 304 с. Русская грамматика 2005 – Русская грамматика: научные труды / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова / Н. С. Авилова, А. В. Бондарко, Е. А. Брызгунова, С. Н. Дмитренко, И. Н. Кручинина, В. В. Лопатин, М. В. Ляпон, В. А. Плотникова, М. С. Суханова, И. С. Улуханов, Н. Ю. Шведова. – Репринтное издание. – М., 2005. – 784 с. Русская риторика 1996 – Русская риторика: хрестоматия / авт.сост. Л. К. Граудина. – М.: Просвещение: «Учеб. лит.», 1996. – 559 с. Русская словесность 1997 – Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология / под ред. проф. В. П. Нерознака. – М.: Асаdemia, 1997. – 320 с. Рыжова 1987 – Рыжова Л. П. Речевой этикет и языковая норма // Языковое общение: единицы и регулятивы: межвуз. сб. науч. тр. – Калинин: Калинин. гос. ун-т, 1987. – С. 53-57. 524
Савенкова 2003 – Савенкова Л. Б. Гипербола и мейозис в русских пословицах // Язык в прагматическом аспекте: экспрессивная стилистика, риторика: сб. статей, посвященных 75-летию со дня рождения проф. Т. Г. Хазагерова. – Ростов н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 2003. – С. 30-39. Салимовский 1990 – Салимовский В. А. Взаимосвязь лексических и синтаксических единиц в функционально-стилистическом аспекте // Типология текста в функционально-стилистическом аспекте: межвуз. сб. науч. тр. – Пермь: Перм. гос. ун-т им. А. М. Горького, 1990. – С. 41-47. Самгар 2003 – Самгар В. Н. Сферы регуляции и нормы речевого поведения // Филологические науки. – 2003. – № 3. – С. 61-67. Самигулина 2003 – Самигулина Ф. Г. Механизм экспрессивности грамматической антитезы // Язык в прагматическом аспекте: экспрессивная стилистика, риторика: сб. статей, посвященных 75-летию со дня рождения проф. Т. Г. Хазагерова. – Ростов н/Д: Издво Ростов. ун-та, 2003. – С. 48-54. Самигулина 2007 – Самигулина Ф. Г. Синергетический подход в психолингвистических исследованиях гетерогенности когнитивных процессов // Языковая система и речевая деятельность: лингвокультурологический и прагматический аспекты. Вып. 1. Материалы международной научной конференции. – Ростов н/Д: Логос, 2007. – С. 105-109. Санников 1999 – Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры. – М.: «Языки русской культуры», 1999. – 544 с. Седов 2001 – Седов К. Ф. Жанр и коммуникативная компетенция // Хорошая речь / О. Б. Сиротинина, Н. И. Кузнецова, Е. В. Дзякович и др.; под ред. М. А. Кормилицыной и О. Б. Сиротининой. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2001. – С. 107-117. Семен 1985 – Семен Г. Я. Лингвистическая природа и функционирование стилистического приема парадокса (на материале английского языка): дис. … канд. филол. наук. – Одесса, 1985. – 197 с. Семенюк 1970 – Семенюк Н. Н. Норма как лингвистическое понятие // Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка / отв. ред. Б. А. Серебренников. – М.: Наука, 1970. – С. 549-565. Серебренников 1988 – Серебренников Б. А. Предисловие // Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира / Б. А. Сереб525
ренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др. – М.: Наука, 1988. – С. 3-7. Сидоров 1987а – Сидоров Е. В. Принцип коммуникативного детерминизма // Вопросы системной организации речи: сб. ст. / под ред. Н. К. Гарбовского. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – С. 25-38. Сидоров 1987б – Сидоров Е. В. Проблемы речевой системности. – М.: Наука, 1987. – 140 с. Сидоров 1987в – Сидоров Е. В. Системное определение текста и некоторые проблемы коммуникативной лингвистики // Вопросы системной организации речи: сб. ст. / под ред. Н. К. Гарбовского. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – С. 38-47. Синт. фигуры… 2007 – Синтаксические фигуры как система: коллективная монография. – Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2007. – 416 с. Ситникова 1965 – Ситникова З. И. Некоторые лингвистические основы стилистического исследования: дис. … канд. филол. наук. – М., 1965. – 470 с. Скворцов 1970 – Скворцов Л. И. Норма. Литературный язык. Культура речи // Актуальные проблемы культуры речи / под ред. В. Г. Костомарова и Л. И. Скворцова. – М.: Наука, 1970. – С. 40-55. Скворцов 1996 – Скворцов Л. И. Современные отечественные и зарубежные исследования в области культуры речи (в нормативном и коммуникативном аспектах) // Культура русской речи и эффективность общения. – М.: Наука, 1996. – С. 40-65. Скляревская 1987 – Скляревская Г. Н. Языковая метафора в словаре. Опыт системного описания // Вопросы языкознания. – 1987. – № 2. – С. 58-61. Скляревская 1993 – Скляревская Г. Н. Метафора в системе языка / отв. ред. акад. Д. Н. Шмелев. – СПб.: Наука, 1993. – 151 с. Сковородников 1978 – Сковородников А. П. Эллипсис как стилистическое явление современного русского литературного языка (пособие для спецкурса). – Красноярск: Краснояр. гос. пед. ин-т, 1978. – 95 с. Сковородников 1981 – Сковородников А. П. Экспрессивные синтаксические конструкции современного русского литературного языка. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1981. – 255 с. Сковородников 1984 – Сковородников А. П. Позиционнолексический повтор как стилистическое явление // Филологические науки. – 1984. – № 5. – С. 71-76. 526
Сковородников 1988 – Сковородников А. П. Актуальная проблематика теории синтаксических фигур // Риторика и синтаксические структуры: тезисы краев. научно-практ. конф. / под ред. А. П. Сковородникова. – Красноярск, 1988. – С. 147-151. Сковородников 1997 – Сковородников А. П. О содержании понятия «национальный риторический идеал» применительно к современной российской действительности // Теоретические и прикладные аспекты речевого общения: научно-метод. бюл. / Краснояр. гос. ун-т; под ред. А. П. Сковородникова. – Вып. 5. – Красноярск-Ачинск, 1997. – С. 27-37. Сковородников 1998 – Сковородников А. П. О состоянии речевой культуры в российских средствах массовой информации (опыт описания типичных нарушений литературно-языковых норм) // Теоретические и прикладные аспекты речевого общения: научно-метод. бюл. / под ред. А. П. Сковородникова. – Вып. 3 (7). – Красноярск, 1998. – С. 10-19. Сковородников 2002 – Сковородников А. П. О системном описании понятия «стилистическая фигура» // Русская речь. – 2002. – № 4. – С. 62-67. Сковородников 2003 – Сковородников А. П. Язык современной российской прессы в аспекте категории экспрессивности // Русистика на пороге ХХI века: проблемы и перспективы: материалы международной научной конференции (Москва, 8-10 июня 2002 г.) / сост. Н. К. Онипенко. – М.: ИРЯ РАН, 2003. – С. 238-241. Сковородников 2004а – Сковородников А. П. М. В. Ломоносов и современная теория риторических приемов // Международная конференция «М. В. Ломоносов и развитие русской риторики» (Москва, 24 ноября 2004 г.). Научное издание. – М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2004. – С. 17-28. Сковородников 2004б – Сковородников А. П. О необходимости разграничения понятий «риторический прием», «стилистическая фигура», «речевая тактика», «речевой жанр» в практике терминологической лексикографии // Риторика ↔ Лингвистика. Вып. 5: сборник статей. – Смоленск: СГПУ, 2004. – С. 5-11. Сковородников 2004в – Сковородников А. П. Об экспрессивном бессоюзии в контексте теории стилистических фигур // Речевое общение: специализированный вестник / под ред. А. П. Сковородникова. – Вып. 5-6 (13-14). – Красноярск, 2004. – С. 45-55. 527
Сковородников 2005а – Сковородников А. П. О катахрезе // Русская речь. – 2005. – № 3. – С. 68-74. Сковородников 2005б – Сковородников А. П. О классификации риторических приемов // Stylistyka. ХIV. – Opole, 2005. – С. 103-119. Сковородников 2005в – Сковородников А. П. О системных основаниях классификации риторических приемов // Риторика ↔ Лингвистика. Вып. 6: сборник статей. – Смоленск: СГПУ, 2005. – С. 163181. Сковородников 2005г – Сковородников А. П. Риторические приемы в аспекте речевой системности // Стереотипность и творчество в тексте: межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 9 (по материалам Международной научной конференции) / отв. ред. М. П. Котюрова. – Пермь: Перм. ун-т, 2005. – С. 216-227. Сковородников 2007а – Сковородников А. П. Классификация фигур: риторическая традиция и/или риторическое новаторство // Современная филология: актуальные проблемы, теории и практика: сб. материалов II междунар. науч. конф. Красноярск, 10-12 сентября 2007 г. / гл. ред. К. В. Анисимов. – Красноярск, 2007. – С. 30-37. Сковородников 2007б – Сковородников А. П. О риторических приемах с операторами «увеличение» и «уменьшение» // Мир русского слова. – 2007. – № 3. – С. 40-46. Сковородников 2008 – Сковородников А. П. О катахрезе и смежных явлениях // М. В. Ломоносов и современные стилистика и риторика: сб. статей / науч. ред. И. Б. Александрова, В. В. Славкин. – М.: Флинта: Наука, 2008. – С. 245-258. Сковородников, Дамм 2001 – Сковородников А. П., Дамм Т. И. О лингвостилистическом статусе каламбура (на материале русскоязычных газетных текстов) // Stylistyka. Вып. Х. – Opole, 2001. – С. 183-193. Сковородников, Копнина 2002 – Сковородников А. П., Копнина Г. А. Об определении понятия «риторический прием» // Филологические науки. – 2002. – № 2. – С. 75-80. Сковородников, Копнина 2004а – Сковородников А. П., Копнина Г. А. Выразительные средства языка газетной публицистики // Журналистика и культура русской речи. – 2004. – № 1. – С. 11-21. Сковородников, Копнина 2004б – Сковородников А. П., Копнина Г. А. Экспрессивные средства в языке современной газеты: тенденции и их культурно-речевая оценка // Язык средств массовой ин528
формации как объект междисциплинарного исследования: учебное пособие по специализации. Ч. 2. – М.: Изд-во МГУ им. М. В. Ломоносова, 2004. – С. 285-306. Скребнев 1975 – Скребнев Ю. М. Очерк теории стилистики. Горький, 1975. – 175 с. Скребнев 1984 – Скребнев Ю. М. Языковая и субъязыковая норма // Нормы реализации. Варьирование языковых средств: межвуз. сб. науч. тр. – Горький: Изд-во Горьк. гос. пед. ин-та им. М. Горького, 1984. – С. 161-173. Слесарева 1988 – Слесарева И. П. Владение и овладение языком: правила и интуиции // Языковая системность при коммуникативном обучении: сб. статей / под ред. Лаптевой О. А., Лобановой Н. А., Формановской Н. И. – М.: Русский язык, 1988. – С. 36-44. Слюсарева 1981 – Слюсарева Н. А. Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка. – М.: Наука, 1981. – 206 с. Смелкова и др. 2006 – Риторика: учебник / З. С. Смелкова, Н. А. Ипполитова, Т. А. Ладыженская [и др.]; под ред. Н. А. Ипполитовой. – М.: Велби, Проспект, 2006. – 448 с. Сметанина 2002 – Сметанина С. И. Медиа-текст в системе культуры (динамические процессы в языке и стиле журналистики конца ХХ века): научное издание. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 383 с. Смирнов 2003 – Смирнов А. А. Понятие «правдоподобия» в классической теории В. К. Тредиаковского // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. – 2003. – № 4. – С. 7-16. Смолина 2004а – Смолина А. Н. Зевгматические конструкции в современном русском литературном языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Кемерово, 2004. – 18 с. Смолина 2004б – Смолина А. Н. Нарушение семантической и грамматической сочетаемости в ряду однородных членов предложения как способ привлечения внимания адресата // Речевое общение: Специализированный вестник / под ред. А. П. Сковородникова. – Вып. 5-6 (13-14). – Красноярск, 2004. – С. 55-60. Современный… 1999 – Современный русский язык: учебник: Фонетика. Лексикология. Словообразование. Морфология. Синтаксис / Л. А. Новиков, Л. Г. Зубкова, В. В. Иванов и др.; под общ. ред. Л. А. Новикова. – СПб.: Изд-во «Лань», 1999. – 864 с. 529
Соколова 2005 – Соколова Н. Л. О системном характере речевого этикета // Филологические науки. – 2005. – № 1. – С. 43-52. Солнцев 1974 – Солнцев В. М. К вопросу о семантике, или языковом значении (вместо предисловия) // Проблемы семантики: сб. ст. – М.: Наука, 1974. – С. 3-11. Солнцев 1977 – Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. – М.: Наука, 1977. – 341 с. Солодуб 1999 – Солодуб Ю. П. Структурная типология метафоры // Филологические науки. – 1999. – № 4. – С. 67-75. Сопер 1998 – Сопер П. Л. Основы искусства речи: пер. с англ. С. Д. Чижовой / под ред. К. Д. Чижова и Л. М. Яхнича. – Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 1998. – 448 с. Сперанская 1999 – Сперанская А. Н. Правила речевого поведения в русских паремиях: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Красноярск, 1999. – 35 с. Стариченок 2002 – Стариченок В. Д. Русский язык. Школьный словарь-справочник. – Мн.: Интерпрессервис, 2002. – 352 с. Степанов 1965 – Степанов Ю. С. Французская стилистика. – М.: Высшая школа, 1965. – 321 с. Степанян 1987 – Степанян Т. Р. Синестетические метафоры русского языка: автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 1987. Стернин 1966 – Стернин И. А. Практическая риторика. – Воронеж: ИПКРО, 1996. – 141 с. Стернин 1979 – Стернин И. А. Проблемы анализа структуры значения слова. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1979. – 156 с. Стернин 2001 – Стернин И. А. Введение в речевое воздействие. – Воронеж: ИПЦ МОУВЭПИ, 2001. – 252 с. Стернин 2002 – Стернин И. А. Риторика. – Воронеж: Изд-во «Кварта», 2002. – 224 с. Стилистика… 2004 – Стилистика и литературное редактирование / под ред. проф. В. И. Максимова. – М.: Гардарики, 2004. – 651 с. Сумарокова 1978 – Сумарокова Л. Н. О соотношении простоты и системности в лингвистических теориях. – М.: Наука, 1978. – С. 186-202. Сурикова 2004 – Сурикова Т. И. Литературное редактирование // Стилистика и литературное редактирование / под ред. В. И. Максимова. – М.: Гардарики, 2004. – С. 441-613. 530
Сухих 1987 – Сухих С. А. Организация диалога // Языковое общение: единицы и регулятивы: межвуз. сб. науч. тр. – Калинин: Калинин. гос. ун-т, 1987. – С. 95-103. Сырма 2007– Сырма Н. А. Тропы и фигуры речи и их текстообразующая функция (на материале русского и английского языков): дис. …канд. филол. наук. – Ростов н/Д, 2007. – 184 с. Сыров 2007 – Сыров И. А. Текст с точки зрения языка и речи. Специфика прагматической дискурсивизации // Языковая система и речевая деятельность: лингвокультурологический и прагматический аспекты. Вып. I. Материалы международной научной конференции. – Ростов н/Д: НМЦ «Логос», 2007. – С. 166-168. Сычев 1995 – Сычев О. А. Избранные отечественные публикации по проблемам риторики за 1790-1927 годы // Риторика: специализированный проблемный журнал. – М.: Изд-во «Лабиринт», 1995. – № 2. – С. 160-164. Сэпир Э. 1985 – Сэпир Э. Градуирование // Новое в зарубежной литературе. Вып. ХVI. Лингвистическая прагматика. – М.: Прогресс, 1985. – С. 43-78. СЭС 2003 – Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожиной. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 696 с. Таранов 2002 – Таранов П. С. Приемы влияния на людей. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 608 с. Тарланов 1995 – Тарланов З. К. Методы и принципы лингвистического анализа. – Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского ун-та, 1995. – 190 с. Ташкинова 2003 – Ташкинова О. В. Принцип кооперации в связи с интерпретируемостью текста: дис. … канд. филол. наук. – Орел, 2003. – 132 с. Таюпова 2004 – Таюпова О. И. Коммуникативнопрагматическая норма как лингвистический феномен // Вопросы функционирования языковых единиц. – Уфа: БашГУ, 2004. – С. 5054. Телия 1977 – Телия В. Н. Вторичная номинация и ее виды // Языковая номинация (Виды наименований). – М.: Наука, 1977. – С. 129-221. Телия 1981 – Телия В. Н. Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке. – М.: Наука, 1981. – 269 с. 531
Телия 1988 – Телия В. Н. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др. – М.: Наука, 1988. – С. 173-204. Телия 1996 – Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 288 с. Теоретическая поэтика 2001 – Теоретическая поэтика: понятия и определения: хрестоматия для студентов / авт.-сост. Н. Д. Тамарченко. – М.: РГГУ, 2001. – 467 с. Теория красноречия… 1830 – Теорiя красноречiя для всѣх родов прозаическихъ сочинений, извлеченная изъ немѣцкой библiотеки словесных наук А. Галичемъ. – СПб.: При Императорской Академiи Наукъ, 1830. – С. 29-55. Тихонова 1985 – Тихонова Е. С. Уместность речи как риторическая категория // Филологические науки. – 1985. – № 5. – С. 74-77. Тихонова 2001 – Тихонова М. П. Метатеза и контрапетрия как способы создания комического эффекта во французской детской поэзии // Риторика в свете современной лингвистики: тезисы докладов Второй межвузовской конференции (14-15 мая 2001 г.). – Смоленск: СГПУ, 2001. – С. 94-95. Ткаченко 1989 – Ткаченко Л. П. Паронимическая аттракция как речевой прием // Речевые приемы и ошибки. Типология, деривация, функционирование: сб. науч. тр. – М.: Ин-т языкознания, 1989. – С. 126-130. Тодоров 1999 – Тодоров Цв. Введение в фантастическую литературу / пер. с франц. Б. Нарумова. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. – 144 с. Токарев 2002 – Токарев Д.В. Курс на худшее: абсурд как категория текста у Даниила Хармса и Сэмюэля Беккета. – М.: Новое литературное обозрение, 2002. – 336 с. Толстоус 2007 – Толстоус Н. В. Гомеотелевт как стилистическая универсалия // Риторика в свете современной лингвистики: тезисы докладов Пятой межвузовской конференции (4-5 июня 2007 г.). – Смоленск: СмолГУ, 2007. – С. 157-159. Томашевский 1983 – Томашевский Б. В. Стилистика: учеб. пос. – М.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. – 288 с. 532
Тропина 2007 – Тропина И. А. Наречия-инновации: лингвопрагматический аспект: дис. … канд. филол. наук. – Ростов н/Д, 2007. – 148 с. Трошина 2000 – Трошина Н. Н. Лингвистический аспект межкультурной коммуникации // Лингвистические исследования в конце ХХ в.: сб. обзоров. – М.: ИНИОН РАН, 2000. – С. 56-68. Трубецкой 2000 – Трубецкой Н. С. Основы фонологии / пер. с нем. А. А. Холодовича; под ред. С. Д. Кацнельсона. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 352 с. Труфанова 2001 – Труфанова И. В. О разграничении понятий: речевой акт, речевой жанр, речевая стратегия, речевая тактика // Филологические науки. – 2001. – № 3. – С. 56-62. Труфанова 2004 – Труфанова И. В. Типология риторических фигур, представляющих собой намеренное нарушение речеповеденческих норм // Русский язык: исторические судьбы и современность: II Международный конгресс русистов-исследователей (М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 18-21 марта 2004 г.). – Режим доступа: http://www.philol.msu.ru/~rlc2004/ru/abstracts/?id=91&type=doc, свободный. Труфанова 2006 – Труфанова И. В. К типологии паралогических фигур // Разноуровневые характеристики лексических единиц: сборник научных статей по материалам докладов и сообщений конференции (Смоленск, 3-4 октября 2006 г.). – Смоленск: Смоленское областное книжное издательство «Смядынь», 2006. – С. 179-184. Тюхтин 1978 – Тюхтин В. С. О подходах к построению общей теории систем // Системный анализ и научное знание. – М.: Наука, 1978. – С. 42-60. Урманцев 1978 – Урманцев Ю. А. Начала общей теории систем // Системный анализ и научное знание. – М.: Наука, 1978. – С. 7-42. Успенский 2007 – Успенский Б. А. Ego Loguens: язык и коммуникативное пространство. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2007. – 320 с. Фанян 2000 – Фанян Н. Ю. Аргументация как лингвопрагматическая структура: дис. … докт. филол. наук. – Краснодар, 2000. – 354 с. Федоров 1971 – Федоров А. В. Очерки общей и сопоставительной стилистики. – М.: Высш. шк., 1971. – 195 с. 533
Федосеева 2005 – Федосеева А. В. Слова-аббревиатуры с двойной мотивацией как средство языковой игры // Язык как система и деятельность. – Ростов н/Д: ООО «Сигма», 2005. – С. 131-133. Федосюк 2003 – Федосюк М. Ю. Аспекты организации предложения в контексте современной лингвистики // Русистика на пороге ХХI века: проблемы и перспективы: материалы международной научной конференции (Москва, 8-10 июня 2002 г.) / сост. Н. К. Онипенко. – М.: ИРЯ РАН, 2003. – С. 71-73. Филиппов, Романова 2002 – Филиппов А. В., Романова Н. Н. Публичная речь в понятиях и упражнениях: справочник: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 160 с. Формановская 2002 – Формановская Н. И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход. – М.: Рус. яз., 2002. – 216 с. Франк 1986 – Франк Д. Семь грехов прагматики: тезисы о теории речевых актов, анализе речевого общения, лингвистике и риторике // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. Сб. пер. с англ. / сост. и вступит. ст. И. М. Кобозевой и В. З. Демьянкова. Общ. ред. Б. Ю. Городецкого. – М.: Прогресс, 1986. – С. 363-373. Фридрих 1990 – Фридрих С. А. Экспрессия в языке и речи. – Владимир: ВГПИ им. П. И. Лебедева-Полянского, 1990. – 99 с. ФС 2004а – Фразеологический словарь современного русского литературного языка / под ред. проф. А. Н. Тихонова / сост.: А. Н. Тихонов, А. Г. Ломов, А. В. Королькова. Справочное издание: в 2 т. – Т. 1. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 832 с. ФС 2004б – Фразеологический словарь современного русского литературного языка / под ред. проф. А. Н. Тихонова / сост.: А. Н. Тихонов, А. Г. Ломов, А. В. Королькова. Справочное издание: в 2 т. – Т. 2. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 832 с. ФЭС 1997 – Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М., 1997. – 576 с. ФЭС 2006 – Философский энциклопедический словарь / ред.сост. Е. Ф. Губский, Г. В. Корабеева, В. А. Лутченко. – М.: ИНФРАМ, 2006. – 576 с. Хабаров 1985 – Хабаров И. А. Лингвистика и коммуникативные единицы языка. Методологические аспекты // Коммуникативные 534
единицы языка: сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М. Тореза. – Вып. 252. – М., 1985. – С. 4-19. Хазагеров 1984 – Хазагеров Г. Г. Функции стилистических фигур в газетных заголовках (по материалам «Комсомольской правды»): дис. … канд. филол. наук. – Ростов н/Д, 1984. – 159 с. Хазагеров 1997 – Хазагеров Г. Г. Между жанром и тропом: парабола и парадигма // Северо-Кавказские чтения. «Функционирование языка в различных речевых жанрах (Лиманчик-97)»: материалы Всерос. науч. конф. Вып. 1. – Ростов н/Д, 1997. – С. 12-13. Хазагеров 2002 – Хазагеров Г. Г. Политическая риторика. – М.: Никколо-Медиа, 2002. – 313 с. Хазагеров 2003 – Хазагеров Т. Г. Проблема языковой нормы в связи с понятием «красивого», «возвышенного» и «эффективного» (к типологии норм) // Язык в прагматическом аспекте: экспрессивная стилистика, риторика: сб. статей, посвященный 75-летию со дня рождения проф. Т. Г. Хазагерова. – Ростов н/Д, 2003. – С. 55-65. Хазагеров, Лобанов 2004 – Хазагеров Г. Г., Лобанов И. Б. Риторика. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 384 с. Хазагеров, Ширина 1994 – Хазагеров Т. Г., Ширина Л. С. Общая риторика: Курс лекций и Словарь риторических фигур: учеб. пособие / отв. ред. Е. Н. Ширяев. – Ростов н/Д: Феникс, 1994. – 192 с. Хазагеров, Ширина 1999 – Хазагеров Т. Г., Ширина Л. С. Общая риторика: курс лекций; словарь риторических приемов / отв. ред. Е. Н. Ширяев. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 320 с. Ханпира 1966 – Ханпира Эр. Об окказиональном слове и окказиональном словообразовании // Развитие словообразования современного русского языка. – М.: Наука, 1966. – С. 154-163. Харрис 2002 – Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 448 с. Харченко 1988 – Харченко Н. П. Экспрессивные синтаксические конструкции, стилистические синтаксические парадигмы и стилистические приемы // Риторика и синтаксические структуры: тезисы краев. науч.-практ. конф. / под ред. А. П. Сковородникова. – Красноярск, 1988. – С. 162-164. Химик 2003 – Химик В. В. Современная русская лексикография: живая речь и лексическая норма // Русистика на пороге ХХI века: проблемы и перспективы: материалы международной научной конференции (Москва, 8-10 июня 2002 г.) / составитель Н. К. Онипенко. – М.: ИРЯ РАН, 2003. – С. 134-136. 535
Химик 2004 – Химик В. В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. – СПб.: Норинт, 2004. – 768 с. Хроленко, Бондалетов 2004 – Хроленко А. Т., Бондалетов В. Д. Теория языка: учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 512 с. Хэллидей 1980 – Хэллидей М.А.К. Лингвистическая функция и литературный стиль // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. IХ. Лингвостилистика. – М.: Прогресс, 1980. – С. 116-148. Цыгичко, Клоков 1986 – Цыгичко В. Н., Клоков В. В. Основные принципы описания сложных организационных систем // Диалектика и системный анализ / отв. ред. Д. М. Гвишиани. – М.: Наука, 1986. – С. 121-136. Чайковский 1987 – Чайковский Р. Р. К проблеме нормы в стиле кинопрозы // Норма и стилистическое варьирование: межвуз. сб. тр. – Горький: ГПИ им. М. Горького, 1987. – С. 99-107. Чепурных 1988 – Чепурных В. И. О коммуникативнопрагматическом подходе к исследованию графических стилистических средств в художественном тексте // Коммуникативные единицы языка и принципы их описания. – М., 1988. – С.147-153. Черемисина 2004 – Черемисина М. И. Теоретические проблемы синтаксиса и лексикологии языков разных систем. – Новосибирск: Наука, 2004. – 896 с. Черкасова 1968 – Черкасова Е. Т. Опыт лингвистической интерпретации тропов (метафора) // Вопросы языкознания. – 1968. – № 2. – С. 28-38. Чернавина 2007 – Чернавина А. А. Фонетическая игра как элемент игрового стиля в романе В. Набокова «Лолита»: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Ростов н/Д, 2007. – 26 с. Чернейко 1990 – Чернейко Л. О. Специфика производного лексического значения слова // Вестник Московского ун-та. Сер. 9. Филология. – 1990. – № 2. – С. 35-46. Чернец 2001 – Чернец Л. В. К теории поэтических тропов // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. – 2001. – № 2. – С. 7-19. Чернышева 1985 – Чернышева Т. А. Природа фантастики. – Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1985. – 336 с. Чернявская 2005 – Чернявская В. Е. Тип текста в социокультурной перспективе // Жанры речи: сб. науч. статей. Вып. 4. Жанр и концепт. – Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2005. – С. 102-112. 536
Чесноков 2007 – Чесноков П. В. Проблема динамического синкретизма // Языковая система и речевая деятельность: лингвокультурологический и прагматический аспекты: материалы Междунар. науч. конф., посвященной памяти профессоров А. Н. Савченко, М. К. Милых, Т. Г. Хазагерова. Вып. I. – Ростов н/Д: НМЦ «Логос», 2007. – С. 43-45. Чмыхова, Баскакова 1992 – Чмыхова Н. М., Баскакова Л. В. О речевых приемах реализации контраста // Проблемы экспрессивной стилистики. Вып. 2 / отв. ред. Т. Г. Хазагеров. – Ростов н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1992. – С. 131-135. Чулкова 1978 – Чулкова В. С. Многочленный стилистический прием как одно из средств интеграции текста (на материале англоязычных прозаических текстов): дис. … канд. филол. наук. – М., 1978. – 209 с. Шатуновский 1991 – Шатуновский И.Б. «Правда», «истина», «искренность», «правильность» и «ложь» как показатели соответствия предложения мысли и действительности // Логический анализ языка. Культурные концепты. – М.: Наука, 1991. – С. 31-37. Шварцкопф 1970 – Шварцкопф Б. С. Очерк развития теоретических взглядов на норму в советском языкознании // Актуальные проблемы культуры речи / под ред. В. Г. Костомарова и Л. И. Скворцова. – М.: Наука, 1970. – С. 269-404. Шварцкопф 1977 – Шварцкопф Б. С. Типы соотношения вариантов и статистические исследования нормы // Языковая норма и статистика: сб. ст. – М.: Наука, 1977. – С. 126-134. Шварцкопф 1998 – Шварцкопф Б. С. Культура деловой речи // Культура русской речи: учебник для вузов / под ред. проф. Л. К. Граудиной и проф. Е. Н. Ширяева. – М.: Издат. группа НОРМА-ИНФРА·М., 1998. – С. 216-234. Шевцова 1999 – Шевцова О. Н. Особенности употребления анаподотона в современной художественной прозе // Риторика в свете современной лингвистики: тезисы докладов межвузовской конференции (13-14 мая 1999 г.). – Смоленск: СГПУ, 1999. – С. 105-106. Шевцова 2001 – Шевцова О. Н. Роль пунктуационных знаков в создании диакопы // Риторика в свете современной лингвистики: тезисы докладов Второй межвуз. конференции (14-15 мая 2001 года). – Смоленск: СГПУ, 2001. – С. 98-99. Шейнов 2000 – Шейнов В. П. Риторика. – Минск: Амалфея, 2000. – 592 с. 537
Шендельс 1969 – Шендельс Е. И. Полуотмеченные структуры и их стилистическое значение // Проблемы лингвистической стилистики: тезисы докладов. – М., 1969. – С. 168-170. Шендельс 1972 – Шендельс Е. И. Грамматическая метафора // Филологические науки. – 1972. – № 3. – С. 48-57. Шилова 1998 – Шилова С. В. Соблюдение и нарушение принципов речевого общения в деловой коммуникации (на материале английского языка): дис. … канд филол. наук. – СПб., 1998. – 219 с. Ширина 1987 – Ширина Л. С. Амплификация в системе экспрессивных средств // Проблемы экспрессивной стилистики. – Ростов н/Д, 1987. Ширина 1995 – Ширина Е. В. Описательные типы изложения в публицистических текстах // Проблемы филологии и журналистики в контексте новых общественных реальностей (Лиманчик-95): материалы Всерос. науч. конф. Вып. 3. Проблемы журналистики. – Ростов н/Д, 1995. – С. 27-30. Ширяев 1996 – Ширяев Е. Н. Культура речи как особая теоретическая дисциплина // Культура русской речи и эффективность общения. – М.: Наука, 1996. – С. 7-39. Ширяев 1998 – Ширяев Е. Н. Современная теоретическая концепция культуры речи // Культура русской речи: учебник для вузов / под ред. проф. Л. К. Граудиной и проф. Е. Н. Ширяева. – М.: Издат. группа НОРМА-ИНФРА·М., 1998. – С. 12-25. Шмелев 2002 – Шмелев А. Д. Русский язык и внеязыковая действительность. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 496 с. Шмелева 1997 – Шмелева Т. В. Модель речевого жанра // Жанры речи. – Саратов, 1997. – С. 88-98. Шмелева 2006 – Шмелева Т. В. Текст как объект грамматического анализа: учеб.-метод. пособие. – Красноярск, 2006. – 63 с. Штайн 2001 – Штайн К. Э. Переходность и синкретизм в свете деятельностной концепции языка // Языковая деятельность: переходность и синкретизм. – М.; Ставрополь, 2001. – С. 11-26. Шувалов 2006 – Шувалов В. И. Метафора в поэтическом дискурсе // Филологические науки. – 2006. – № 1. – С. 56-63. Щаренская 2004 – Щаренская Н. М. Греко-византийская традиция в русской риторике: трактат «О образѣхъ». – М.: Флинта: Наука, 2004. – 252 с. 538
Щаренская 2005 – Щаренская Н. М. К истории термина «катахреза» // Язык как система и деятельность. – Ростов н/Д: ООО «Сигма», 2005. – С. 126-130. Щербаков 2006 – Щербаков А. В. Градация в современном русском литературном языке (очерк экспрессивной стилистики): монография. – Красноярск: Изд. центр Краснояр. гос. ун-та, 2006. – 166 с. Щурина 1999 – Щурина Ю. В. Речевые жанры комического // Жанры речи: сб. науч. статей. – Саратов: Изд-во гос. учебн.-науч. центра «Колледж», 1999. – С. 146-156. Щурина 2000 – Щурина Ю. В. Концепция речевых жанров как вариант системного описания речевой деятельности // Лингвистическое наследие И. А. Бодуэна де Куртенэ на исходе ХХ столетия: тезисы докл. Междунар. науч.-практ. конф. – Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 2000. – С. 119-121. Эйхбаум 1987 – Эйхбаум Г. Н. Экспонентно противоречивые высказывания и их смысл // Языковое общение: единицы и регулятивы: межвуз. сб. нач. тр. – Калинин, 1987. – С. 58-68. ЭК – Эффективная коммуникация: история, теория, практика: Словарь-справочник / отв. ред. М. И. Панов; сост. М. И. Панов, Л. Е. Тумина. – М.: ООО «Агенство «КРПА Олимп», 2005. – 960 с. ЭСС 2005 – Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты / под ред. А. П. Сковородникова. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 480 с. Ягелло 2003 – Ягелло М. Алиса в стране языка. Тем, кто хочет понять лингвистику / пер. с фр. Э. М. Береговской и М. П. Тихоновой. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 192 с. Яковлева 1995 – Яковлева Е. А. Словарь-минимум по риторике. – Уфа, 1995. – 93 с. Якутина 2003 – Якутина О. Л. Катахреза в системе бинарных экспрессивных словосочетаний // Риторика в свете современной лингвистики: тезисы докладов Четвертой межвузовской конференции (6-7 июня 2005 г.). – Смоленск: СГПУ, 2003. – С. 107-109. Якутина 2007 – Якутина О. Л. Катахреза в поэтическом сборнике Эмме Сезера «La poésie» // Риторика в свете современной лингвистики: тезисы докладов Пятой межвузовской конференции (4-5 июня 2007 года). – Смоленск, 2007. – С. 171-173. Янко-Триницкая 1968 – Янко-Триницкая Н. А. Штучки-дрючки устной речи: (Повторы-отзвучия) // Русская речь. – 1968. – № 4. – С. 48-62. 539
Ярышева 1995 – Ярышева Н. В. Гипербола в поэтических произведениях М. Ю. Лермонтова (лингвистический аспект): автореф. … канд. филол. наук. – М., 1995. – 22 с. Fontanier 1968 – Fontanier P. Les figures du discourse. – P.: Flammarion, 1968. – 505 p. Hartung 1977 – Hartung W. Zum Inhalt des Normbegriffes in der Linguistik // Normen in der sprachlichen Kommunikation. AkademieVerlag. – Berlin, 1977. – S. 36-39. Lausberg 1960 – Lausberg H. Handbuch der literarischen Rhetorik. – Bd. 1-2. – München, 1960.
540
ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 Принятые сокращения АиФ – «Аргументы и факты» ВК – «Вечерний Красноярск» Всем… – «Всем, всем, всем! Газета скидок!» Изв. – «Известия» КК – «Красноярский комсомолец» КП – «Комсомольская правда» КР – «Красноярский рабочий» ЛГ – «Литературная газета» МК – «"Московский комсомолец" – в Красноярске» Рос. газета – «Российская газета» СГ – «Сегодняшняя газета» СР – «Советская Россия» ТД – «Твой Додыр» Учит. газета – «Учительская газета» Хак. – «Хакасия» ЮСВ – «Южно-Сибирский вестник»
541
Приложение 2
Предметный указатель* А Абод, 409 Абоминация, 156-158 Абузия, абузио, 200, 301 Аверсия, 383, 470 – персонифицированная, 470 – спирифицированная, 470 Авторское «мы», 237 Авторское обновление фразеологизма, 187 Аганактезис, 384 Агноминация, 482 Аддубитация, 157 Адианоэта, 236, 423, 475 Адината, 162, 236, 460 Адмирация, 156, 157 Адноминация, 218, 481 Адхортация, 157 Адъидеация, 160 Акисма, 157 Аккузация, 157 Аккумуляция, 114, 154, 210, 217, 227, 359, 362, 368, 460, 475 Акромонограмма, 363, 365 Акростих, 219 Акротеза, 415 Акт – речевой, 20, 62, 64, 83, 111, 112, 145, 157, 158, 177, 178, 240, 484
– коммуникативный (коммуникации), 42, 64, 82-84, 106, 166, 177, 178, 228 Актуализация, 481 – внутренней формы, 481 – фразеологизма, 481 Аллегорическая аллегореза, 450 Аллегория, 189, 190, 192, 200, 201, 227, 236, 237, 449-453, 458, 483 – смешанная, 451 – чистая, 451 Аллеотета, 237, 355 Аллитерация, 197, 210, 219, 227, 235, 237, 261, 268, 401, 402, 475 – анафорическая, 402 Аллойоза, аллойозис, 416 Аллюзия, 211, 227, 236 – фонетическая, 236 Алогизм, 120, 375, 420, 421 Альтерация, 446 Амальгамация, 249, 338 Амплиация, 237 Амплификация, 210, 220, 221, 227, 235, 412, 417 – гипонимическая, 417 – метонимическая, 220 – фигурная, 220 Амфиболия, 227, 386, 423 – лексическая, 423 Амфигурия, 299, 420
*
В указатель вошли прежде всего терминологические наименования типов норм и различных отклонений от них. Предметный указатель составлен Ю. И. Борисенко. 542
Амфидиортозис, 156, 157 Амфитеза, 415, 416 Анастрофа, 268 Анаграмма, 192, 227, 261, 343, 344, 398 Анадиплозис, анадиплоз, анадиплосис, 147, 220, 227, 364 – лексический, 365 Анакойнозис, 157 Анаколуф, 120, 196, 211, 227, 235, 369-371, 373, 374, 389, 398 – зевгматический, 374 – морфологический, 370 – морфолого-синтаксический, 369, 370 – синтаксический, 369, 371 Аналепсис, 443 Аналогия, 190, 311, 337 – фигуральная, 311 Анамнезис, 154, 217 Анантаподатон, анантаподотон, анаподатон, анаподотон 120, 220, 371, 373, 378, 391, 393, 420 – семантический, 393 Анаптиксис, 264, 398 Анастрофа, 194, 227, 268, 386 – звуковая, 268 – повторная, 194 Анафора, 119, 121, 147, 165, 190, 193, 196, 197, 210, 220, 227, 237, 363, 365, 367, 393, 398, 401, 405, 410, 460 – консонантная, 401 – лексико-синтаксическая, 365 – лексическая, 365, 405 – синтаксическая, 121, 367 Анаценозис, 237 Анацефалиозис, 218 Анаэпифора, 119, 121, 364, 365, 367, 410
– лексико-синтаксическая, 365 – лексическая, 364, 365 – синтаксическая, 121, 367 Анезис, 237 Анемография, 155 Анжамбеман, анжамбман, 387 Анизохрония, 443 Анимализация, 470 Анимизация, 297, 467 Анноминация, 194, 227 – антитетическая, 403 Аномалия, 24, 25, 61, 87, 97-99, 117, 128, 130, 183, 228, 229, 231, 305, 429, 454, 487 – аксиологическая, 230, 232 – грамматическая, 231, 232 – дискурса, 231, 232 – коммуникативно-прагматическая, 228, 230, 232 – концептуальная, 228, 229 – лексико-семантическая, 230, 232 – логическая, 228-230, 232, 422 – модуса «реальность», 98 – мотивационно-прагматическая, 230 – наррации (нарративная), 231, 232, 443, 445 – онтологическая, 230 – прагмасемантическая, 228, 230, 232, 429 – прагматическая, 228, 229 – семантическая, 132, 228, 232 – системно-языковая, 229 – системы, 229 – словообразовательная, 231, 232 – стилистическая, 230, 232 – субстанциональная, 230, 232 – текстовая (текста), 229, 231, 232, 443 – формальная, 228 543
– фразеологическая, 230, 232 – языковая, 98, 99, 127, 136, 228, 231, 232, 429 – языковой концептуализации – мира, 230, 232 – принципов текстопорождения, 231, 232 – системы национального языка, 230 Антанагога, 218 Антанакласса, антанакласа, антанакласис, анатанаклаза, антанаклазис, 119, 194, 211, 227, 235, 391, 392, 405, 408 Антибеневоленсия, 399 Антигенусия, 399 Антигипофора, 220 Антиклимакс, 227, 400, 418 Антиконсенсусия, 399 Антилаудисия, 399 Антимерия, 323 Антиметабола, 162, 195, 211, 227, 390 Антиметалепсис, 390 Антиметастаза, 405 Антиметатеза, 383, 390 Антимодестия, 399 Антимодусия, 399 Антинорма, 88, 89, 100, 371 Антиолицетворение, 297 Антипарцелляция, 396 Антипатия, 399 Антиперсонификация, 297 Антипофора, 381 Антиратио, 399 Антирезис, 157, 218 Антисагога, 162, 218 Антистекон, 152, 237, 269, 270, 347-349, 454 – инициальный, 347
Антистрофа, 193, 268, 363 Антитеза, 108, 109, 119, 147, 162, 190, 191, 195, 209, 210-211, 220, 227, 236, 237, 269, 313, 355, 390, 400, 409, 415-417, 426, 475 – грамматическая, 355, 416 – каламбурная, 236 – мнимая, 417 Антифразис, антифраз, антифраза, антифрасис, 154, 201, 219, 227, 236, 286, 328-331, 382, 384, 479 Антиципация, 118, 119, 215, 389, 443, 444, 447, 448 Антиэллипсис, 94, 118, 368 Антономазия, антономаза, антономасия, 188, 189, 200, 227, 320326, 330 – синонимическая, 322 Антропоморфизм, 297 Анумерация, 218 Анэпифора, 364 Апокопа, 266 Апагорезис, 157 Апактезис, 156 Аподиксис, 157 Аподозис, 236, 392 Апозиопезис, апозиопеза, апозиопея, 118, 147, 210, 227, 375, 377379, 398 Апокойну, 120, 227, 368, 369, 374, 398 Апокопа, 227, 237, 252, 262, 263, 266, 267, 342, 351, 398 Апокрисис, 381 Апория, 157 Апостроф, 383, 464 Апофазис, апофаза, апофазия, 156, 162, 236, 422, 431, 475 Апофегма, 210 544
Аппликация, 120, 236, 249, 300, 352, 369, 479 – синтаксическая, 479 Ара, 156-158 Асервация, 375 Асимметрия, 119, 120 – языкового знака, 96 Асиндетон, 106, 110, 119, 220, 227, 235, 368, 375, 376, 398 Ассонанс, 197, 219, 227, 235, 237, 261, 401, 475 Астеизм, 189, 201, 227, 330, 331 Астротезия, 155 Асфалия, 157 Аттракция, 414, 415, 417, 418, 424, 425, 442, 475, 485, 488 – паронимическая, 414 Аферезис, афереза, 227, 237, 262, 263, 265, 398 Афоризм, 210 Афорисма, 237 Афразис, 329 Аффиксация избыточная, 101 Аффирмация, 157
В Вариантность, 96, 97 – нормативная, 96, 97 Вариативность, 90 Верлан, 261, 343, 398 Включение, 203, 364, 377, 380 Внесение, 374 Возвращение, 192, 193, 207, 208, 364 Вольность, 116 Вопросно-ответный ход, 114, 381 Вопросно-ответный комплекс, 381 Вопрошение, 192, 206, 207-210 Восклицание, 118, 192, 206-210, 381, 383 Восхождение, 192, 207, 208, 210, 211 Вспятословие, 328 Вставка, 101, 253, 263, 352, 394, 487 – протетическая, 101 Вторичная условность, 458 Выдвижение, 116 Выкидка, 264 Выключение, 203
Б Баттология, 237 Беневоленция, 157 Бенедикция, 156-158 Бессоюзие, 192, 194, 207, 210, 211, 375 Бестиализация, 297, 470 Благозвучие, 237 Богатство, 236 Брахилогия, 375 Буквализация, 404, 481, 482 – метафоры, 480, 481 – фразеологического значения, 482
Г Гапакс легоменон, 335 Гапакс эйременон, 335 Гаплология, 237, 262 Геминация, 147, 220, 253, 365 – многократная, 365 Гендиадис, 227, 273, 274, 347, 348, 369 Гендиатрис, 273, 274 География, 155 Герменея, 237 Гетерозис, 355 Гибридность, 120 545
Гибридные слова, 339 Гидрография, 155 Гипаллага, гипаллаг, 201, 220, 227, 274, 316, 380, 476 Гипербатон, гипербат, 188, 211, 227, 386 Гипербола, 125, 127, 161, 189-192, 200, 201, 210, 211, 225, 227, 234, 236, 281, 287, 289, 299, 307, 420, 458, 462, 463, 475, 494 – абсолютная, 463 – абсурдная, 463 – гротескная, 463 – метафорическая, 463 – метонимическая, 458 – неметафорическая, 462 – относительная, 462 Гиперзевгма, 220 Гиперонимизация, 235, 237 Гипертроп, 328 Гиперфигура, 300 Гипозевгма, 367 Гипокатастасис, 296 Гипокорисма, 235 Гипонимизация, 237 Гипотипоз, 161 Гипофора, 220, 381, 382 Гистерология, 471 Гистеронпротерон, гистеропротерон, 220, 236, 471, 472, 475 Глоссирование, 237 Голофразис, 340, 351, 352, 398 Гомеология, 342, 352, 403, 404, 414, 475 Гомеооптотон, гомеоптотон, 195, 235, 403 Гомеопроферон, 401, 405 Гомеотелевт, гомеотелевтон, 119, 195, 227, 403 Гомеоэоптон, 403
Градация, 119, 120, 124, 147, 190, 194, 196, 210, 234, 235, 418, 426, 475 – восходящая, 418 – нисходящая, 418 – ритмическая, 235 Градуальность, 130 Градуирование, 89, 123 Градуированность, 99, 100 Графон, 394-396 Гротеск, 458
Д Двандва, 347 Девиация, 99, 116, 122, 245 – семантическая, 99, 116 – синтаксическая, 116 Дезидентификация, 416 Делиберативный вопрос, 382 Дендрография, 155 Деперсонификация, 297 Депрекация, 157, 161 Деривация, 403 Дескрипция, 155, 236 Детализация излишняя, 253, 445, 475 Дефлексия, 116 Дехортация, 157 Деэтимологизация, 476 Диастола, 265 Диакопа, 147, 220, 235, 340, 352, 398 Диалелименон, диалелуменон, 375 Диализис, 375 Диалог, 209, 211 Дианойя, 381 Диасирм, 162 Диасирмус, 218 546
Диаскейя, 155 Диастола, 237, 265, 398 Диатеза, 416, 478 Диафора, 151, 227, 405, 406, 408 Диереза, диереса, 198, 227, 237, 264 Дилемма, 115, 157 Дилогия, 236, 273, 423 Диссолюция, 375 Дистинкция, 237, 405, 409 Дисфемизм, 235, 267, 455, 475 Диэзис, 157 Добавление, 101, 116, 120, 192, 210, 251 – итеративное, 251 – отрицательное, 251 – полное, 251 – последовательное, 114 – простое, 251 – частичное, 251 Дозволение, 209 Дубитация, 156, 157 Е Евстафия, 157 Евхаристия, 157 Единозаключение, 207, 363 Единознаменование, 192, 206, 208 Единозначение, 207 Единоконечие, 363 Единоначатие, 207, 208, 363 Единоокончание, 207, 208, 363 Ж Жанр, 24-26, 33, 37, 57, 63, 64, 90, 141, 163, 177, 206, 216, 218, 277, 320, 435, 438, 439, 442, 460, 473 – речевой, 8, 64, 112, 140, 148, 155, 162, 163, 169, 177, 219, 330, 430, 456, 484
Желание, 208, 209 З Заятие, 209 Заимословие, 155, 204, 207, 208, 211, 465, 466, 469, 470 – персонифицированное, 469 – спирифицированное, 469, 470 Заклинание, 192, 208-210 Закон логики, 224 – непротиворечия, 166 – противоречия, 149 Замена, 101, 120, 235, 236, 342 – местоименная, 235 – синонимическая, 235 – словообразовательная, 236, 342 Затемнение истинного происхождения слова, 477 Заумный язык, 237 Заятие, 207 Звукопись, 236, 401, 402 Звукоподражание, 401 Зевгма, 111, 119, 195, 197, 227, 235, 236, 367, 375, 400, 420, 424 – каламбурная, 195, 236 И Избыточность речевая, 413 Изображение, 209 Игра на внутренней форме слова, 236, 481 Игра на тавтологиях, 425 Избыточность, 120, 121 Изменение, 186, 192, 260 – звуковое, 260 Изобилование, 192, 207, 208 Изображение, 192, 208 Изобразительность, 236 Изоколон, исоколон, 106, 121, 152, 547
165, 195, 227, Изоморфизм, 473, 484, 485, 488 – операторов, 397 Изречение, 206, 210 Иллеизм, 390 Иллюстративный пример, 237 Именительный темы, 388 – лекторский, 389 – представления, 388 – словесный, 389 Иминуция, 384 Импликатура, 82, 136, 406 – речевая, 82 Импоссибилия, 236, 460 Инанимация, 471 Инверсия, 88, 118, 119, 147, 190, 191, 196, 220, 227, 254, 268, 370, 385, 386, 391, 398, 476 – грамматическая, 88 – стилистическая, 385 Ингенуусия, 399 Индигнация, 156-158 Инклюзия, 364 Инкорпорирующее сращение, 340 Иннуендо, 377 Инопинация, 157 Инопия, 189 Иноречие, 449 Иносказание, 449, 450 Инословие, 449 Инотолкование, 477 Инсинуация, 157 Инструментовка, 219, 344, 401 – словесная, 401 Инсультация, 156-158 Интерпретация, 157, 210 Интеррогация, 157 Интерференция, 120, 369 Инфиксация, 263
Ирония, 147, 154, 191, 192, 197, 200, 201, 211, 281, 288, 289, 329, 330 Искусственная книжность, 237 Истолкование, 193 К Какография, 235 Какофемизм, 189 Каламбреден, 476 Каламбур, 216, 219, 227, 254, 261, 391, 400, 408 – омонимический, 254 – полисемический, 408 – хиастический, 391 Капитализация, 394 Каскад неузуальных слов, 255 Катаплексия, катаплексис, 157, 218 Катаплока, 384 Катафора, 390 Катахреза, катахрезис, катакреза, катакресис, катахреса, 186, 188, 189, 200, 201, 203, 227, 281, 296, 300-303, 305, 483 – обиходная, 301 Категория текстовая, 71, 73, 75, 79, 84, 181, 485 – авторизации, 75 – времени, 75 – завершенности, 73 – иерархии, 73 – информации, 75 – содержательно-концептуальной, 75 – содержательно-фактуальной, 75 – «информационная программа», 72 – коммуникативности, 71 548
– композиции, 73 – модальности, 75, 77 – прагматичности, 77 – пространства, 75 – связности, 73 – целостности, 73 – экспрессивности, 77 – эмотивности, 77 Качества (коммуникативные) хорошей речи, 62, 65, 67, 70-73, 77, 79-82, 84, 113, 181, 233-235, 483, 485 – ассоциативность эстетически значимая, 79 – благозвучие, 79 – богатство, 77, 79, 81, 82, 234 – вежливость, 76, 81, 82 – выразительность, 77, 79, 81, 82, 238 – доступность, 76 – живость, 77, 81, 82 – изобразительность, 79, 234 – информативность, 72, 80, 81 – красота, 79 – краткость, 67 – лаконизм, 82 – логичность, 72, 73, 81, 82 – понятийная, 73 – предметная, 73, 81, 456 – образность, 77, 81, 82 – однозначность, 236 – правдивость, 67 – правдоподобие, 74, 81, 236 – правильность, 71, 79, 81, 235 – прозрачность, 66 – простота, 76, 82 – разнообразие, 77 – точность, 76, 81, 82 – понятийная, 71 – словоупотребления, 71, 74, 80
– уместность, 66, 67, 71, 79 – жанровая, 80, 81 – контекстуальная, 71 – личностно-психологическая, 71 – ситуативная, 71, 80, 81 – стилевая, 71, 80, 81 – функциональность, 66, 71 – целесообразность, 67 – чистота, 66, 76, 81, 82, 235 – эмоциональность, 77, 81, 82 – эстетическая выдержанность, 79 – яркость, 82, 234, 237 – ясность, 66, 67, 76, 79, 81, 82 Кверимония, 156-158 Кеннинг, 320 Киклос, 193, 227, 364 Климакс, 194, 227, 400, 418 Клише, 92 Койнотес, 235, 364 Колебание нормы, 87, 92, 95-97 Кольцо, 147, 193, 220, 237, 363, 364-366, 405, 410 – лексическое, 365, 405 Комморация, 409 Коммуникация, 157 Коммутация, 237, 390 Компенсация, 218 Комплексия, 364 Композит, 338 Компрессия, 380 – синтаксическая, 380 Компробация, 156, 157 Конвергенция, 183, 299 – звуковых приемов, 270 Конверсия, 363 – модели, 152 Конкатенация, 28, 210, 227, 237, 362, 419 Конкретизация сказанного, 237 Консервация, 409 549
Консоляция, 157 Контаминация, 119, 300, 331, 337, 344, 352, 369, 370, 372, 373, 381, 426, 437, 438, 445, 462, 472, 475, 487 – временная, 471, 478 – пространственная, 472 – семантическая, 331 Контенция, 218 Контрапетрия, 344 Контраст, 115, 120, 221, 359, 409 Контрреже, 387 Концессия, 115 Концовка, 363 Коррекция, 220, 237, 381, 426 Краткость, 235 Л Ламбдаизм, 269 Лексикализация, 320, 342, 343, 351, 352, 413 – избыточная, 413 – идиоматическая, 320 Лирическое отступление, 448, 474 Литота, 125, 189, 200, 210, 219, 227, 234, 236, 287, 299, 381, 384, 398, 420 Логичность, 236 Логогриф, 219 М Маестития, 399 Макаронизм, 349, 395 – графический, 395 Макароническая речь, 235 Макрология, 413 Макрофигура, 226, 227 – деструктивнаая, 226, 227 – конструктивная, 226, 227
Максима речевого поведения (общения), 38-40, 44, 48-50, 55, 67, 68, 180 – благородства, 55 – великодушия, 52, 75, 399, 456 – взаимности, 54, 75 – взаимодействия, 54 – интерпретируемости, 51 – истинности, 399 – качества, 456 – количества информации, 399 – коммуникативная, 66 – манеры, 399 – одобрения, 52, 55, 75, 399 – позитивного отношения, 54, 75 – психологической поддержки говорящего, 54, 75 – релевантности, 399 – симпатии, 52, 56, 75, 399 – скромности, 52, 54, 56, 75, 399, 456 – снижения негативной реакции, 54, 75 – согласия, 52, 56, 75, 399 – сотрудничества, 54 – такта, 52, 55, 75, 399, 456 – экспликации эмоциональной реакции, 54, 75 Мартирия, 158 «Матрешка», 394 Мезеотелевтон, 235 Мезиопея, 378 Мезодиплозис, 364 Мезозевгма, 367 Мейозис, мейосис, 125, 127, 161, 189, 210, 237, 289, 307, 321, 384 Мемпсис, 157 Мена причины и следствия, 474 Метабазис, 237, 398, 346 550
Метабола, 116, 135, 193, 238, 248, 390 Метагоге, 466 Метаграмма, 235 Метаграф, 394 Металепсис, металепса, 188, 200, 201, 327 Металогизм, 377, 458, 459 Метаморфоза, 307, 312, 313 – метонимическая, 313 Метаплазмы, 237, 251, 261, 263, 265, 269 – замещения, 269 – сокращения, 265 – увеличения, 263 Метатеза, 101, 198, 227, 237, 268, 270, 398 – звуковая, 268 Метафора, 127, 129, 138, 147, 154, 163, 186, 188-192, 200, 201, 211, 214, 219, 220, 224, 227, 234, 236, 240, 254, 257, 280-282, 285-303, 305-316, 319-321, 323, 325, 331333, 356-359, 398, 406, 408, 449453, 466, 480-482 – авторская, 296 – адвербиальная, 312 – антропоморфная, 296, 299 – атрибутивная, 296 – бинарная, 296 – вынужденная, 301 – генитивная, 296 – глагольная, 296 – грамматическая, 236, 355, 359 – аккумулятивная, 359 – двучленная, 296 – декоративная, 296 – живая, 296, 303 – забытая, 481 – замкнутая, 296
– зооморфная, 296 – индивидуальная, 296 – индикативная, 296 – когнитивная, 296 – композиционная, 296 – концептуальная, 296 – лексическая, 138 – ломаная, 301 – морфологическая, 357, 398 – незамкнутая, 296 – непризнанная, 481 – номинативная, 296 – образная, 296 – общеязыковая, 139 – одночленная, 296 – олицетворяющая, 299, 300 – оригинальная, 139 – ослабленная, 296 – оценочная, 296 – предикативная, 296 – препозициональная, 296 – пространственная, 296 – протяженная, 453 – развернутая, 163, 319, 450, 451, 453, 480 – синкретическая, 306 – синтетическая, 306 – спящая, 481 – стертая, стершаяся, 129, 139, 296, 480-482 – сухая, 296 – угасшая, 129 – флористическая, 296 – художественная, 240 – языковая, 280, 291, 296, 302, 306, 313, 333, 481 Метафора-загадка, 296, 450 Метафора-сравнение, 296 Метонимия, 147, 154, 163, 188, 189, 192, 200, 201, 211, 219, 224, 551
227, 235, 236, 240, 281, 285-300, 302, 305, 307, 311, 314-323, 325, 327, 358, 380, 450, 458, 478 – позиционная, 478 – художественная, 240 Метономазия, 237 Микрофигура, 198, 226, 227 Минус-прием, 94 Минус-фигура, 110, 111 Многопадежие, 408 Многословие, 413 Многосоюзие, 192, 194, 207, 208, 210, 211, 411 Модель, 139-145, 147-149, 151-153, 162, 163, 177, 226, 231, 336, 337, 358, 362, 369, 371, 399, 484, 487 – аномальности, 231 – высказывания, 141, 142, 149 – грамматическая, 141, 358 – графическая, 140 – жанра, 141 – лингвистическая, 142 – линейного объединения слов, 276 – метафоры, 310 – метаязыковой деятельности, 151 – мира, 248 – операциональная, 399 – порождающая, 143 – построения, 483 – предложения, 141, 169, 276, 361, 362, 369, 412 – речевая, 140, 142 – речевого акта, 140 – речевого жанра, 140, 162 – риторического приема, 148, 151-153, 162, 169, 182 – аналитическая, 151 – порождающая, 152 – синтезирующая, 152
– синтаксическая, 140, 142, 143, 145, 231, 362, 369 – словообразовательная, 231, 337 – словосочетания, 276, 412 – текста, 140 – тропеическая, 147 – стилистической фигуры, 146 – языковая, 142 – языковых единиц, 146 Моделирование, 65, 139, 140, 151 Моделируемость, 139,142, 150153, 158, 170, 182 – отклонения, 487 – риторического приема, 149, 182 – тропа, 148 – фигуры, 148 – стилистической, 146 Мольба, 210 Монолог, 211 Н Нагнетание изоструктурных производных, 404 Нагромождение, 362 «Наклеивание ярлыков», 159, 160 Наклонение, 192, 207, 210 Наложение, 120, 253, 338, 398, 422-424, 429, 430, 445, 479, 487 Нанизывание, 474 Напряжение, 115, 192, 208 Наращение, 207, 208 Нарушение – нормы, 87, 92, 95, 98, 99, 105, 228 – мнимое, 95 – презумпций, 427 – принципов речевого поведения, 228 Невозможность, 208 Недосказ, 378 552
Нейтрализация, 8, 10, 13, 35, 87, 89, 118, 124, 128-130, 132, 136, 138, 139, 167, 168, 183, 487 – абсолютная (полная), 138, 139, 168, 183 – контекстуальная, 130, 183, 299, 487 – относительная (частичная), 138, 139, 168, 183 – отклонения, 168, 170 – от нормы, 133, 135-139 – предметно-логической, 137 – от приема, 183, 349 – от принципа правдоподобия, 137 – речевая, 183, 487 – языковая, 487 Нелинейная репрезентация слова, 351 Ненорма, 88, 97, 100, 128 Неожиданность, 190 Неправдоподобие нарочитое / неправдоподобное описание, 137, 202, 205, 298, 299, 420, 422, 457460, 462, 470, 479 Нимиусия, 399 Номенклатурные наименования, 237 Номинация, 236, 418 – градуирующая, 418 – иконическая, 236 Норма, 6-40, 44, 47, 48, 51, 52, 56, 57, 59-79, 81, 85-94, 96-100, 104, 107, 108, 110, 113, 116, 122-130, 134, 139, 152, 167, 170, 180-183, 228, 230, 242, 243, 247, 248, 250, 258, 259, 263, 268, 275, 276, 280, 308, 319, 320, 325, 335, 336, 355, 362, 371, 383, 398, 399, 402, 421, 444, 456, 461, 485, 486
– аксиологическая, 122, 123 – антропонимическая, 15 – асистемная, 15 – арготическая, 15 – ведения диалога,16 – вербализации мысли, 320 – говорящего, 126 – деонтическая, 13 – дескриптивная, 16 – диалектная, 15 – жанровая, 15, 26, 27, 80, 81, 85, 86, 137, 399, 486 – жанрово-ситуативная, 15, 27, 68 – жанрово-стилистическая, 36, 37 – индивидуальная, 15 – восприятия, 126 – языковая, 15 – индивидуального стиля, 36 – интеракции, 16 – интерпретационная, 15 – информационная, 72 – информационно-речевая, 16, 27, 72, 81, 84-85, 182, 253, 399, 434, 486 – искусной речи, 16 – использования вербальных средств, 68, 181 – использования невербальных средств, 69, 181 – качества, 127 – кода, 16 – коммуникативная, 15, 37, 39, 44, 57, 65, 67-70, 85, 86, 181 – коммуникативно-прагматическая, 15, 21, 36, 37, 48, 68, 77, 79 – коммуникативно-этическая, 15 – коммуникативно-языковая, 21 – композиционная, 26, 27 – композиционно-речевая, 36, 37 553
– конвенциональная, 15, 37, 180, 486 – конверсационная, 38 – контекстуальная, 15 – культурно-речевая, 70, 181, 435 – культурная, 99 – лингвопрагматическая, 36, 37, 48, 52, 62, 67, 68, 82-86, 180, 181 – лингвоэтологическая, 37, 241 – литературная, 18, 20, 60, 97, 152, 399, 480 – литературно-языковая, 18 – логико-предметная, 135 – логико-речевая, 16, 27, 84, 85, 181, 182, 375, 399 – логическая, 113, 123, 235 – морали, 76 – мотивационно-прагматическая, 232 – мышления, 421 – нейтральная (нейтральный вариант / нулевая ступень), 95, 168, 371, 372, 383 – синтаксическая, 95, 371, 383 – нерегулярной встречаемости однородных языковых единиц, 84, 86, 182, 399, 486 – нерегулярности текстовой структуры, 85, 255, 486 – нравственная, 14, 99 – нулевой стилистической окраски, 95 – общения, 38, 56, 69, 181 – вербального, 85, 86, 181 – невербального, 70, 85, 86 – речевого, 38 – объективная, 125 – онтологическая, 17, 241, 245247, 461 – параметрическая, 15, 122, 125
– параонтологическая, 241 – письменной речи, 107 – поведения, 40, 248 – вербального, 37, 69, 70 – неречевого, 461 – речевого, 26, 36, 60, 180, 461 – социального, 90 – повествовательная, 16, 399, 486 – политическая, 15, – предметно-логическая, 16, 27, 72, 74, 81, 85, 86, 135, 137, 181, 182, 457, 486 – прескриптивная, 16 – природная, 180, 461, 486 – просторечная, 15, 16 – профессиональная, 14 – психического абсолюта, 247, 421 – психолингвистическая, 16 – психологическая, 125 – разговорной речи, 337 – реагирования на этикетные фразы, 16 – религиозная, 15 – ретроспективная 16 – (собственно) речевая, 16-18, 22, 23, 26, 27, 29, 32-38, 48, 52, 60, 65, 67-70, 76, 83-86, 92, 115, 152, 180, 181, 245, 258, 274, 360, 399, 486 – речевого этикета, 113 – речевой деятельности, 181, 399 – речевой коммуникации, 83 – речевых высказываний, 17, 21, 68 – речедеятельностная, 399 – речеповеденческая, 37, 70, 181, 241, 486 – риторическая, 66, 76 – риторическая общения, 16 – ритуальная, 14 – семантико-прагматическая, 16 554
– ситуативная, 16, 27, 71, 80, 81, 84-86, 181, 399, 486 – ситуативно-обусловленная, 21 – ситуативно-речевая, 441 – слушающего, 126 – смысловая, 16 – сообщения, 15 – социальная, 15-17, 83, 85, 92, 180, 181, 461, 486 – владения языком, 16 – социально-языковая, 17 – среднелитературная, 16 – среднестатистическая, 30, 32, 88, 412, 461 – статистическая, 27, 28, – стилевая, 16, 33, 65 – стилистическая, 16, 27, 32, 33, 68, 90, 91, 486 – стилистически маркированная, 95 – стилистически нейтральная, 95 – субъязыковая, 16 – структурно-языковая, 25, 85, 86 – структуры, 34 – текста, 399 – языковой единицы, 399 – текстовая, 16, 20, 22-27, 32, 36, 37, 47, 52, 60, 62, 67, 68, 70, 8286, 116, 180, 181, 399, 486 – текстообразующая, 16 – терминологическая, 16 – транслингвальная, 16 – формально-логическая, 16, 27, 72, 73, 81, 85, 86, 181, 182, 486 – формационная, 16 – функциональная, 16 – функционально-речевая, 85, 86 – функционально-стилевая, 23, 25 – функционально-стилистическая, 16, 26, 27, 32, 71, 80, 81, 82, 84-86, 181, 399
– функциональных стилей, 15 – художественной речи, 16, 24 – частная, 180 – экспрессивно-стилистическая, 16 – элитарная, 16 – эстетико-речевая, 16, 27, 81, 82, 85, 86, 181, 182, 399, 486 – эстетическая, 14, 15, 77, 78, 99 – этикетная, 16, 69 – этико-речевая, 16, 27, 69, 75, 76, 79, 81, 82, 85, 86, 181, 182, 399, 486 – этическая, 15, 16, 60, 69, 75, 77 – (собственно) языковая, 14-23, 26, 27, 30, 32-35, 38, 60-71, 78, 80, 81, 83, 87, 89, 91, 92, 97, 101, 107, 108, 113, 115, 116, 181, 245, 258, 259, 275, 336, 375, 394, 399 – грамматическая, 15, 20, 21, 37, 88, 116, 352, 353, 369, 371, 373 – морфологическая, 15, 21, 352 – синтаксическая, 15, 20, 373 – лексическая, 15, 20, 21, 37, 275-277 – словоупотребления, 275 – сочетаемости, 276, 277 – правописная (правописания), 20, 97, 394 – графическая, 394 – орфографическая, 20, 394 – пунктуационная, 20, 97, 394 – словообразовательная, 15, 20, 336 – фонетическая, 15, 21, 259 – акцентологическая, 20, 259 – интонационная, 20, 259 – орфоэпическая, 20,37, 259 – фразеологическая, 20, 276. 279 Нотарикон, 254, 345
555
Ноэма, 237 Нулевая пунктуация, 395 Нулевая ступень, 92-94, 108, 124, 249-251, 361, 443, 459, 480 Нулевое выражение, 98 О Обманутое ожидание, 424, 475 Обнажение, 477, 481 – внутренней формы, 481 – приема, 477 Обновление значения слова, 404, 481 Обращение, 209 Одушевление, 209 Образность, 236 Обрамление, 364 Обращение, 192, 206-208, 210 Обрыв, 266, 377 Объединение, 120 Овеществление, 297, 471, 475 – метафоры, 458 Оговорка, 237 Одушевление, 208, 209, 297, 466, 469, 470, 475 Оживление, 465 – внутренней формы слова, 404 – стертой метафоры, 479 Окказионализм, 394 – графический, 394 Окружение, 192, 207, 208, 210, 364 Оксюморон, оксиморон, 190, 211, 227, 236, 301-303, 357, 400, 420, 477, 483 – лексико-грамматический, 357 Олицетворение, 109, 162, 189, 192, 210, 245, 296-300, 303, 305, 318, 327, 453, 459, 464-469, 482
– метафорическое, 162, 299, 300, 303, 459 – метонимическое, 300 Оминация, 157, 218 Омойосис, 109 Омойтелевтон, 111, 403 Онедизм, 157 Ономатопейя, 200, 401 Онтономасия, 321, 325 Оператор, 123, 132, 152, 249, 251, 261, 277, 401, 432, 455, 456, 461463, 471-480, 482, 484, 485, 487, 488 – аттракции, 254, 256, 401, 424, 425, 442, 475 – вставки, 256, 263, 340, 374, 398, 448, 475 – гипонимии, 400 – градуальности, 400, 418 – добавления, 252, 485 – доминантный, 257 – дробления, 252, 485 – замены, 153, 252, 320, 339, 353, 436, 472, 473, 484 – замещения, 251, 252, 256, 353, 398, 422, 436, 455, 475, 485, 487 – инверсии, 475 – конверсии, 162, 254, 256, 346, 398, 475, 485, 488 – контаминации, 253, 256, 262, 278, 374, 398, 437, 475 – контраста, 328, 355, 400, 415, 424, 479 – наложения, 153, 256, 262, 268, 398, 423, 424, 429, 444, 475, 479 – опущения, 252 – перемещения, 252, 485 – перенесения, 470 – переноса, 162, 252, 254, 256, 271, 289, 290, 295, 314, 316, 323, 328,
556
355, 398, 470, 471, 475, 478-480, 482, 485, 487, 488 – обратного, 480, 482 – парадигматического, 254, 256, 398, 474, 484, 487 – семантического, 256, 289, 290, 295, 314, 328, 398, 482, 485 – синтагматического, 254, 256, 398, 475, 485, 488 – перестановки, 137, 251, 252, 254, 256, 257, 344, 392, 398, 471, 475, 485, 488 – функциональной, 471 – повтора, 153, 253, 255-257, 352, 362, 391, 392, 398, 401, 403, 412, 418, 475 – звукового, 401 – лексического, 391 – морфемного, 403 – семантического (смыслового), 412 – синтаксического, 153, 391 – подмены, 252 – преувеличения, 462, 474 – прибавления, 251-253, 256, 262, 278, 398, 475, 485, 487 – присоединения, 252, 485 – пропуска, 252, 256, 262, 279, 395, 398, 475 – развертывания, 253, 454, 475 – разделения, 252, 485 – растяжения, 253, 398, 400, 475 – расчленения, 252, 255, 256, 273, 352, 398, 475, 479, 485, 487 – реаббревиации, 345 – реляционный, 251, 252 – слияния, 268 – смежности, 288 – смещения, 254, 256, 271, 386, 398, 475, 485, 488
– совмещения, 162, 253, 256, 400, 415, 416, 424, 425, 429, 437, 475, 477 – контактного, 253, 426 – неконтактного, 254 – причины и следствия, 431 – соединения, 398 – сокращения, 252, 485 – соподчинения, 400, 417 – сопряжения, 253 – сращения, 256, 340, 351, 352, 398 – субстанциональный, 251, 252 – сходства, 288, 290 – тождества, 288 – транспозиции, 252, 295, 323, 326, 475, 485, 488 – семантической, 289, 488 – по сходству, 326 – трансформации, 288 – убавления, 251, 252, 256, 278, 380, 398, 475, 485, 487 – увеличения, 252 – удлинения, 253, 398, 400, 475 – уменьшения, 252 – усечения, 252, 256, 316, 342, 351, 398, 436, 475 – отклонения, 246-248, 250, 254, 256, 337, 338 – от нормы, 254, 289 – языковой, 289 Описание, 192, 211, 239 Определение, 207, 209, 211, 237, 239 – логическое, 237 – риторическое, 208, 210, 372 Оптация, 161, 384 Опущение, 210, 211 Оркос, 157 Остраннение, 237 Остроумие, 192, 208 557
– информационно-речевой, 253, 432-434, 436, 475 – коммуникативной, 238 – композиционной, 443 – логико-речевой, 145, 162, 429, 479 – логической, 132, 423 – моделируемое, 87, 182, 486 – нейтральной (нейтрального варианта / нулевой ступени), 87, 92, 94, 104, 110, 168, 182, 250, 336, 371, 372, 376, 487 – литературной, 108 – языковой, 363 – лексической, 280 – синтаксической, 360, 362, 447 – нерегулярной встречаемости однородных единиц, 162, 360 – онтологической, 241, 246, 247, 456, 458, 462 – поведения, 241, 473 – невербального, 473 – речевого, 102 – повествования, 446 – повествовательной, 443, 446, 448, 475 – прагматически мотивированное, 87, 95, 97, 101, 103-105, 113, 116, 130, 150, 152, 166, 167, 169, 182, 205, 228, 233, 241, 245, 247, 258, 353, 368, 394, 398, 458, 475, 486 – прагматически немотивированное, 100, 238 – предметно-логической, 456, 475 – психического абсолюта, 458 – (собственно) речевой, 115, 122, 138, 148, 149, 153, 241,
Ответствование, 208, 210-212 Отклонение, 10, 11, 13, 18, 25, 30, 32, 54, 61, 87, 89, 90, 93, 97, 99, 102, 108, 109, 112, 113, 115, 122, 128-130, 148, 151, 153, 160, 167, 182, 222, 223, 228, 237, 248-251, 258, 261, 268, 277, 279, 281, 292, 336, 360, 368, 397, 399, 421, 440, 443, 459, 460, 473, 476, 480, 484, 487, 488 – виртуальное, 245, 452, 456-458, 460, 472, 473, 481 – второго порядка, 481 – обратное, 480 – реальное, 245, 456 – от законов логики, 145, 160, 241, 425, 459, 477 – достаточного основания, 160, 430 – исключенного третьего, 425, 429 – противоречия, 425, 477 – тождества, 422 – от максимы, 456 – качества, 456 – скромности, 456 – от нормы, 87-90, 92, 94, 95, 97102, 105-110, 112, 113, 115, 116, 123, 125-130, 134, 139, 148, 150, 158, 160, 163, 168-170, 180, 182, 246, 249, 250, 255, 257, 295, 376, 401, 432, 461, 485, 486 – абсолютное, 183 – ассоциативной, 109 – графической, 394, 395 – двойное, 479, 482 – жанровой, 437, 438 – жанрово-стилевой, 475 – интонационной, 272 558
274, 362, 399, 412, 414, 416, 473, 475, 479 – речеповеденческой, 429, 431 – ролевой, 441 – ситуативно-речевой, 440-442 – ситуативной, 474 – среднестатистической, 400 – упорядоченности текста, 400 – стилистической, 437 – формально-логической, 153, 420, 431, 475 – эстетико-речевой, 454, 455, 475 – этико-речевой, 453, 454, 475 – эстетической, 454 – этической, 160 – (собственно) языковой, 99, 107, 116, 122, 145, 149, 153, 162, 238, 241, 255, 258, 259, 268, 360, 362, 363, 388, 392, 397-399, 429, 444, 458, 473, 478 – акцентологической, 271, 398 – грамматической, 162, 255, 326 – лексико-фразеологической, 275, 398 – лексической, 153, 228, 255, 277, 280, 326, 337 – морфологической, 228, 352, 355, 398 – орфоэпической, 228, 259261, 398, 484 – правописания, 394 – орфографической, 394-396 – пунктуационной, 395 – синтаксической, 228, 255, 360, 361, 372, 378, 380, 398 – словообразовательной, 228, 337, 342, 349, 398 – словоизменения, 361
– сочетаемости слов, 276, 277, 414, 476 – фонетической, 259, 398 – формообразования, 353 – фразеологической, 277, 333, 334, 372 – от отклонения, 480 – от постулата, 137, 406, 433 – информативности, 102 – количества, 406 – кооперации, 433 – от принципа – нерегулярности текстовой структуры, 268, 274, 360, 400, 475, 479 – правдоподобия, 135, 137 – текстопорождения, 443 – от регулярных форм, 97 – от стандарта, 87, 90, 99, 117 – среднестатистического, 90, 458 – от стереотипа, 87, 117 – жизни, 90 – с операторами, 270, 334, 336, 351, 389, 419 – аттракции, 415, 417, 418 – замещения, 269, 272, 333, 396, 422, 435, 439, 440, 448, 454, 472 – контаминации, 369, 437 – переноса, 271, 280, 331, 343, 381, 396, 432, 447, 463 – коннотации, 331 – семантического, 280 – перестановки, 333, 432 – повтора, 362 – прибавления, 262, 278, 338, 362, 395, 400, 423, 432, 444, 453, 461 – расчленения, 272, 334, 346, 387, 397
559
– смещения, 271 – совмещения, 401, 430, 442 – убавления, 265, 341, 375, 395, 434, 446 Отличение, 207, 208, 210, 405 Отрицание, 220 Отрицательно-положительное высказывание, 373 Отступление, 7, 25, 190, 192, 204, 208, 258, 421 – от жизненного стандарта, 90 – от нормы, 88, 89, 100, 101, 108, 395 Отход от стереотипа жизни, 90, 458 Отъятие, 203 Охват, 115, 193, 364 Оценка, 239 Ошибка, 100, 105, 107, 150, 160, 223, 431 – акцентологическая, 100 – грамматическая, 100 – лексическая, 100 – логическая, 223, 422 – орфографическая, 100 – орфоэпическая, 100 – пунктуационная, 100 – речевая, 100-102, 223, 225, 238, 302, 487 – фразеологическая, 100 – языковая, 429 П Палилогия, 364 Палиндром, 219, 227, 344 Палиндромная речь, 237 Палисиада, 236, 420 Парабола, 163, 449 Парагеза, 263 Парагога, 227, 237, 263, 264, 398 Параграмма, 236
Парадиастола, 211, 237 Парадигма, 163 Парадокс, 211, 426 Паралепсис, паралипсис, 210, 227, 236, 367, 420, 428, 446 Параллелизм, 106, 109, 115, 118121, 152, 165, 227, 235, 365, 367, 376, 390-392, 412 – внутрифразовый, 367 – звуковой, 235 – лексико-синтаксический, 365 – обратный, 390 – синтаксический, 106, 109, 119, 121, 152, 235, 365, 367, 367, 390392, 412 Параллель, 211 Парамития, 157 Параптиксис, 263 Парафраз, 236 Парембола, 374 Парентеза, парентезис, 147, 220, 237, 279, 371, 373, 374, 384, 398 Парисоса, 194 Парные слова, 347 Паромойон, 401 Паронимия, 219 Парономаз, 334 Парономазия, парономасия, 194, 210, 220, 268, 349, 414 Пароэмион, 401 Парцелляция, 118, 119, 227, 252, 272, 273, 279, 351, 388, 398, 413, 479 – слоговая, 272, 351, 398 Патопея, 158 Первотроп, 201 Переключение рода, 357 Перемещение, 192, 208, 211 Перенос – синтаксический, 254, 386, 387, 398
560
Перерыв, 209 Перестановка, 101, 120, 186, 192, 211, 221, 343, 344, 386, 392, 463 – акрофоническая, 268, 344 – инвертированная, 251 – обычная, 251 Перечисление, 114, 121, 235, 362 – динамическое, 114 Перечислительный ряд, 120, 190 Период, 121, 195, 392, 393, 449 Периссология, 412 Перифраза, перифраз, перифразис, 188-190, 200, 211, 219, 227, 235, 237, 281, 286-289, 307, 319-324, 483 – логическая, 237 – тропеическая, 320 Перклюзия, 157 Перкурсия, 431 Пермутация, пермутацио, 200, 321, 328, 449 Персифляция, 331 Персонификация, 190, 296, 297, 357, 464, 465 Персонифицированная материализация абстракции, 468 Плеоназм, 193, 210, 227, 255, 368, 374, 389, 412, 414, 433 – грамматический, 255, 389 – семантико-текстовой, 433 – синтаксический, 368, 374 Плока, 193, 220, 391, 405, 409 Плюс-фигура, 110, 146 Повтор, 111, 120, 121, 190, 193, 197, 210, 220, 238, 348, 362, 363, 365, 367, 376, 388, 392-394, 401, 404-406, 408, 409, 411, 412, 487 – анафорический, 392, 402 – дейктический, 220 – деривационный, 119
– дистантный, 119, 363, 365 – звуковой, 196, 235, 237, 363, 401, 402, 415 – кольцевой, 364, 402 – контактный, 363 – корневой, 235, 403, 404, 418 – лексико-синтаксический, 365 – лексический, 111, 114, 196, 235, 363-365, 390, 391, 405, 410, 412, 419 – неточный, 405 – точный, 111 – морфемный, 235, 363 – морфологический, 235 – нетождественный, 363 – неупорядоченный, 363, 409 – позиционно-лексический, 118, 365, 410 – простой, 364 – семантический, 368 – семиологический неточный, 414 – синонимический, 413 – синтаксический, 235, 363, 367, 391, 412 – сквозной, 410 – тождественный, 363, 405 – упорядоченный, 363 – цепной, 119, 364, 431 – эпифорический, 402 Повторение, 116, 206, 211 Повтор-отзвучие, 347 Подхват, 235, 237 Полиптотон, полиптот, 119, 193, 227, 405, 408 Полисиндетон, 110, 119, 194, 227, 235, 362, 375, 411 Полуотмеченные структуры, 116 «Помещение в центр щита», 472 Поправление, 192, 207-209, 211, 426
561
Порочный круг, 431 Постулат / категория речевого поведения (общения) 8, 37-44, 48-51, 56-58, 60-62, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 79, 82-84, 131, 134, 135, 181, 229, 230, 425 – возможности нарратива, 229 – детерминизма, 73 – имплицитной связности, 230 – информативности, 135, 229, 432 – качества, 43, 50, 72, 74-77, 81, 229 – количества, 43, 50, 72, 80, 81 – кооперации, 80 – нетавтологичности, 229 – неполноты описания, 230 – отношения, 43, 50 – оценочности, 77 – правдоподобия, 229 – реализации нарратива, 229 – релевантности, 72, 229 – способа, 43, 50, 60, 76, 81, 82 – структуры нарратива, 229 – текста, 229, 230 – тональности, 77 – волеизъявления, 77 – интенсивности, 77 – эмоциональности, 77 – уместности, 61 Поэтическая вольность, 235 Правдоподобие / правдоподобное описание, 203, 299, 420, 457, 458 Правило / принцип речевого поведения (общения), 8, 38-45, 48, 49, 51, 54-62, 67, 68, 70, 72, 73, 75, 81, 84, 130, 180, 181, 229, 454, 486 – адекватности, 56 – антиципации, 54, 79 – благоприятной самоподачи, 55
– близости, 44 – вежливости, 52, 58, 75, 76, 81, 82 – взаимодействия, 58, 59, 77 – внимания к адресату, 44 – выразимости, 55 – гармонии речевого события, 45 – говорящего, 59 – движения, 44 – децентрической направленности, 56 – договоренности о новом и старом, 55 – интереса, 399 – информативности, 48, 406 – иронии, 52 – истины, 59 – качества, 43 – количества, 43 – коммуникативного сотрудничества, 45 – коммуникативности, 53, 70, 71 – конкретности, 44 – конструктивизма, 58 – кооперации, 40, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 66, 77, 131, 136, 159 – модальности, 43 – некооперации, 82, 151 – обрабатываемости, 52 – оптимальной интерпретации, 51, 79 – оптимальности, 55, 72 – осмысленности, 53 – позитива, 55 – Поллианы, 399 – последовательности, 56, 72, 73, 81 – потенциальной выявимости оснований, доводов для высказывания, 55, 72, 81 – правдивости, 48 562
– правдивости и доверия, 55, 60, 77, 81, 82 – правдоподобия, 53, 58, 60, 74, 81, 82 – предпочитаемой структуры, 56 – равной безопасности, 56 – разнообразия речи, 45 – разумного эгоизма, 53, 79 – релевантности, 43, 51 – связности, 53, 73, 74, 81 – системности языка, 71, 80 – ситуативности, 53, 71, 80, 81 – слушающего, 59 – сотрудничества, 51, 58, 77 – структурирования общения, 57 – терпимости к собеседнику, 55, 76, 81, 82 – уточнения выражения в контексте, 55, 60, 76 – функционализма, 58, 71, 75 – хорошего слушания, 57 – целенаправленности, 53, 71, 80, 81 – целесообразности, 57, 76, 80, 81 – жанровой, 76 – информационной, 76 – ситуативной, 76 – функционально-стилистической, 76 – экономии, 52 – экспликации отношения, 54, 82 – экспрессивности, 52, 82 – этический, 80 – ясности, 52, 76 Прагматический эффект, 115 Прагматография, 155 Превращение, 155, 203, 472, 475 Превышение, 208 Предвосхищение, 209
Предупреждение, 155, 192, 208, 209, 211, 212 Преложение, 203 Преминение, 208 Пренебрежение презумпциями, 427 Пренесение, 203 Преоккупация, 227 Прерванно-продолженная конструкция, 388 Претерпевание, 197, 198, 260 Прехождение, 208 Прием, 7-11, 13, 18, 27, 29, 43, 54, 61, 87, 99-105, 107-117, 122, 125, 128, 130, 136, 138, 139, 143, 144, 148-156, 158-170, 173, 179, 180, 182-185, 187, 189, 190, 194-197, 199, 202, 203, 205, 206, 209, 212, 214-217, 219-221, 228, 233-235, 237-248, 250-255, 257-259, 261270, 273, 281, 286, 289, 295, 298, 300, 302, 305-307, 311, 318-321, 323, 327, 329-331, 337, 346-352, 359, 362, 363, 365, 367, 368, 372, 375, 381, 385, 388, 391, 397, 400404, 406, 408-411, 413-420, 422432, 434, 436, 437, 441-444, 446, 448, 453, 454, 457-468, 470-487 – выразительный, 233, 234 – графический, 388 – гибридный, 409 – звуковой, 260, 261 – коммуникативный, 114 – композиционно-стилистический, 448 – композиционный, 447 – конструктивный, 114 – криптографический, 344 – лингвистически неохарактеризованный, 154 – литературный, 104 563
– манипулятивный, 144, 161, 436 – ораторский, 114 – психологический, 156-158, 162, 238, 239, 241, 483 – речевой, 100, 115, 117, 159, 161, 167, 183, 213, 216, 222, 225-227, 285, 321, 345, 371, 474 – риторический, 7-11, 13, 18, 61, 87, 99, 103-105, 108, 112, 113, 115, 117, 122, 125, 128, 130, 136, 138, 139, 143, 148-156, 158-170, 179, 180, 182-185, 196, 199, 202, 212, 214-216, 220, 221, 228, 239248, 250, 251, 257, 258, 263, 264, 295, 302, 305, 319, 323, 363, 365, 368, 397, 400, 402, 408, 421, 449, 455, 460, 482-486 – антропосферный, 242, 244, 245, 460 – антропоцентрический, 460 – натуроцентрический, 460 – нонантропосферный, 242, 244, 245, 460 – нонантропоцентрический, 460 – параартефактный, 242-244 – парагеоструктурный, 243, 244 – парагеосферный, 243, 244 – парагеофункциональный, 243, 244 – парагерменевтический, 149 – парадеонтический, 243 – паракосмоструктурный, 243, 244 – паракосмосферный, 243, 244 – паракосмофункциональный, 243, 244 – паралингвальный, 242-244, 258, 268, 275, 335 – паралингвопрагматический, 242244 – паралогический, 149, 166, 241, 242, 421, 422, 423, 429, 432, 484
– параментальный, 243, 244 – паранатуровитальный, 242 – паранатуромортный, 243 – параонтологический, 205 – парапрагматический, 242-244 – парапсихический, 242 – параситуативный, 242-244 – парасоматический, 242-244 – паратекстуальный, 243, 244 – паратопосный, 243 – парафауноморфологический, 242, 244 – парафауносферный, 242, 244 – парафауноэтологический, 242, 244 – парафлороморфологический, 242, 244 – парафлоросферный, 242, 244 – парафлорофункциональный, 242, 244 – парахронический, 243 – параэтологический, 241 – сегментный, 260 – синкретичный, 169, 255, 257, 295, 313, 326, 348, 352, 375, 380, 393, 394, 397, 398, 408, 416, 419, 426, 475, 476, 478, 479, 485, 487, 488 – словесный, 191 – стилистический, 94, 102, 104, 108, 114, 116, 138, 143-145, 148, 164, 167, 177, 187, 206, 212, 214, 216, 233, 239, 241, 260, 266, 302, 325, 344, 355, 420, 478 – художественный, 114, 400 – языковой, 115 – звуковой, 260 – интонационный, 187, 259 – лексико-фразеологический, 196 – лексический, 197 564
– морфонологический, 263 – синтаксический, 197 – словообразовательный, 197 – фонетико-лексический, 197 – фонетический, 197, 259, 262 – фонетико-грамматический, 196 Приложение, 203, 208, 211 Принцип, 117, 215, 397, 482, 483487 – аккумуляции, 359 – алогизма, 120, 121, 246, 420 – аналогии, 286, 287 – асимметрии, 119, 120 – градации, 118, 120 – градуальности, 121, 418 – добавления, 120 – доминантный, 121, 297, 367 – замены, 120, 415 – замещения, 269, 422 – избыточности, 96, 118, 120 – наложения, 337 – контаминации, 120, 160, 246, 249, 268, 273, 337, 338, 369, 370 – контраста, 120, 121, 416 – наложения, 268, 422 – нейтрализации, 138, 176 – нерасчлененности, 120 – нерегулярности текстовой структуры, 84, 152, 399 – операциональный, 192, 460 – организации, 129, 308 – высказывания, 129 – изобразительных средств, 308 – парадигматический, 420 – отклонения, 122, 138, 160, 182, 183, 483, 487 – от закона противоречия, 130 – от нормы, 130, 152, 179, 246, 250
– лексической сочетаемости, 302 – речевой, 152 – языковой, 152 – парадигматический, 119, 120 – параллелизма, 120, 121 – синтаксического, 121 – перестановки, 120, 160 – перечислительного ряда, 120, 121, 418 – повтора, 120, 121 – контактного, 348 – последовательности, 81 – построения, 119, 121, 122, 128, 152, 175, 180, 182, 198, 422 – приема, 160, 191, 460 – риторического, 87, 117, 202, 483 – фигуры, 122, 196 – правдоподобия, 135, 137 – правдоподобного описания, 138 – приложения, 205 – продуцирования риторических приемов, 150 – противоречия, 121 – расчлененности, 120 – рецессивный, 121, 299 – связности, 81 – семантический, 121 – семантической двуплановости, 294, 295, 300 – симметрии, 119, 120 – зеркальной, 390 – синтагматический, 119, 120 – системности языка, 71, 80 – смежности, 318, 325 – совмещения, 422 – соединения, 205 – сопоставления, 286 – сравнения, 120, 286, 287, 307 565
– сходства, 120, 309, 311, 325 – транспозиции, 295 – убавления, 120 – увеличения, 246 – уменьшения, 246 – уподобления, 309 – усечения, 419 – фиктивности, 295, 298, 305 – частный, 180 – экономии, 118, 120 Присвоение, 209 Пробуждение «уснувших» метафор, 479 Прозаподозис, просаподосис, 161, 364 Прозономазия, 237 Прозопография, 155, 156 Прозопопея, просопопея, просопопейя, 209, 210, 227, 297, 464 Прозопоэзис, 364 Проименование, 322 Прокаталепсис, 381 Проклиза, 157 Пролепсис, пролепса, 389, 398, 443 – временной, 474 Прономинация, 324 Пропуск, 484, 486 Просиопеза, 147, 375, 378, 398 Просфонезис, 383 Протазис, 392 Протеза, 198, 227, 237, 263, 264, 348, 350, 398 – инициальная, 347 Противоименование, 330 Противоположение, противуположение, 190, 192, 195, 203, 208 Противопоставление, 115, 239 Противоречие, 131, 426, 442 Протистерон, 471 Протозевгма, 367
Протроп, 157 Прохождение, 207 Псевдоитератив, 443 Псевдопричина, 431 Псевдопротиворечие, 426 Псевдосамофальсификация, 427 Псевдочленение слова, 346, 398 Р Равноконечность, 403 Раздвоение, 274 Разделение, 115, 203, 207-209, 211 Различение, 405 Размещение, 220, 221 Размывание смысла, 289 Разнообразие речи, 234, 235 Разрушение образного значения фразеологизмов, 481 Рамка, 115, 364 Распущение, 264 Расчленение, 273, 351 – ложноэтимологическое, 273 Расшатывание нормы, 96 Рационация, 154, 217 Реаббревиация, 254, 344 – окказиональная, 344 Реализация метафоры, 299, 420, 480, 482 Реддиция, 364 Редеривация, 342 Редукция, 101, 135, 375 – отклонения, 108, 480 – семантическая, 135 Редупликация, 119, 270, 348-350, 364-366 Режé, 387 Режé-контррежé, 387 Рекомпенсация, 218 Реконсилия, 417 566
Реконструкция метафоры, 453, 480, 482 Реприза, 119, 210, 364, 365 Ретардация, 158 Ритм, 235 Риторическая поправка, 426 Риторический вопрос, 111, 118120, 149, 157, 190, 191, 197, 210, 211, 219, 227, 381-384, 398, 426 Риторическое восклицание, 94, 111, 157, 197, 211, 227, 381, 383, 384 Риторическое обращение, 111, 157, 210, 211, 227, 381, 383, 398, 464-466, 469 Риторическое рассуждение, 381 Рондо, 363, 364 Рубленая речь, 237 С Самофальсификация текстовая, 427 Самофальсифицируемые высказывания, 132, 426-429 Сближение, 347 Сгущенная аналогия, 290 Сдвиг, 273, 398 Сегментация, 119, 346, 398 – слова, 346, 398 Семантический конденсатор, 331 Сентенция, 210 Силлепсис, 197, 211, 227, 236, 262, 354, 368, 374, 444 – лексический, 197 – синтаксический, 197 – фразеологический, 197 Симиле, 311 Симметрия, 119-121, 226 – синтаксическая, 226 – языковая, 226
Симплока, 196, 227, 363-365, 410 – лексическая, 365 Симультатив, 430, 474 Симфора, 296 Синалефа, синалэфа, 262 Синантройсм, синайтройсмос, 368, 412 Синафия, 387 Синдезис, 411 Синезис, синезезис, 262 Синекдоха, 188-192, 194, 200, 201, 211, 227, 285, 287, 289, 290, 317319, 321, 323-325, 327, 478 – обобщающая, 290 – позиционная, 478 Синереза, синерезис, 227, 237, 262, 263, 265, 268, 398 Синестезия, 227, 296, 301, 306 – метафорическая, 306 – метонимическая, 306 Синециозис, 415, 430 Синицеза, 262, 265 Синкопа, 227, 237, 262, 263, 265, 267, 341, 398 Синкретизм, 120, 167, 183, 249, 255, 350, 369, 371, 475, 485 – аномалий языковых, 231 – вертикальный, 257, 485 – внутритекстовой, 255 – внутритиповой, 485 – горизонтальный, 257, 316, 485 – динамический, 257 – межтиповой, 255, 485 – операторов, 255 – операциональных принципов, 257 – приемов, 458 – статический, 257 – явлений языковых, 167 Синкризис, синхризис, 416 Синойкиоза, 194, 430 567
Синонимия, 210 Синхизис, 237 Систола, 265 Систрофа, 235 Скандирование, 272, 398 Скопление, 194 Скорнение, 236 Скотисон, 237 Слитие, 211 Слияния, 340 Слова-акронимы, 345, 398 Слова-слитки, 340 Слова-чемоданы, 340 Словообразование, 255, 335, 337, 339-342, 344, 350, 351, 353, 360, 395, 398, 403 – метатезное, 344 – обратное, 342, 351 – окказиональное, 255, 335, 337, 351, 353, 360, 395 – отпредложенческое, 340 – редупликативное, 344, 350, 398 – синкопическое, 341, 398 – текстовое, 403 – телескопическое, 339 Словопреобразование, 260 Словослияние, 339 Смежность, 221 Смешение, 120, 338, 369, 373 Смешение стилей, 437, 475 Смещение, 463 Совмещение, 369, 438, 471 Совокупление, 207, 208 Соединение, 203, 253 Сожаление, 210 Созвучие, 192 Создание нового смысла слова, 260 Сокращение, 101, 192, 207, 210, 251, 375, 380 – полное, 251
– частичное, 251 Солецизм, 235, 361 Сомнение, 192, 207, 208 Сообщение, 192, 206-209, 211 Соответствие, 192, 207, 208, 211 Софизмы, 236 Сочетание, 210 Спирификация, 468, 469 Сплетение, 193 Сравнение, 108, 109, 114, 154, 162, 188-192, 208, 211, 212, 214, 220, 236, 237, 239, 281, 291-293, 304, 307-313, 357, 400, 401, 430, 434, 475 – имплицитное, 307 – истинное, 310 – логическое, 310, 311 – метафорическое, 304, 311 – настоящее, 310 – неопределенное, 309 – образное, 310, 311 – отрицательное, 309 – паралогическое, 430 – присоединительное, 309 – развернутое, 191, 309 – синестетическое, 311 – скрытое, 307 – сокращенное, 307 – укороченное, 307 – художественное, 311 – экспрессивное, 311 – эллиптированное (эллиптическое), 291, 434, 475 Сращение, 253, 487 Стандарт, 90-92 Стереотип, 91, 92, 98 – речевой, 92, 98 – языковой, 92 Стилизация, 236 Стратегия, 57 568
– речевая, 159, 177 Ступенчатость, 194 Стык, 193, 364 Стяжение, 101, 262, 380 Субъекция, 382 Субъюнкция, 365 Сфрагида, 237 Схема, 38, 57, 114, 115, 141, 142, 145-148, 162, 183, 185, 220, 226, 230, 243, 407, 426 – действия и поведения, 248 – предложения, 372 – приема, 425 – структурная, 362, 376, 408 Схематисма, 237 Сходство, 120, 221, 409 Т Тавтология, 227, 233, 389, 390, 406, 414, 425 – синтаксическая, 389, 390 Тактика, 57, 153, 155, 163, 375 – речевая, 8, 103, 112, 148, 153155, 158, 159, 161, 163, 177, 183, 206, 239, 364, 378, 422, 484 Телескопические (телескопные) слова, 340, 398 Тмезис, 147, 220, 227, 340 Тождество, 221 Топография, 156 Топотезия, 203, 243 Точность, 234, 237 Традукция, 162, 195, 405 Транзиция, 161 Транслацио, трантланцо, 200, 290 Транспозиция, 294, 345, 381, 382, 384, 463 – семантическая, 294 Трансформация, 211, 261, 395
– облика слова, 261 – прецедентного текста, 395 Трантноминацио, 200 Трантумпцио, 200 Триколон, 195 Троп, 7, 9, 10, 12, 99, 101-103, 109, 112, 117, 118, 127, 138, 144, 146148, 151, 161, 163, 164, 168, 184, 186-189, 191, 197-201, 203, 208, 209, 211, 213-215, 219-227, 234, 238, 240, 242, 253, 261, 280-291, 295, 296, 301, 302, 304-308, 310, 311, 314-318, 320, 324, 325, 327, 328, 331, 346, 355, 357-359, 398, 420, 421, 450, 476, 484 – вынужденный, 168 – грамматический, 219, 221, 318, 319, 329, 355-357, 360, 381, 384, 385, 426 – индивидуально-авторский, 168 – компаративный, 201, 288 – контигуальный, 288 – контраста, 201, 220, 288, 328 – контрастивный, 201, 288 – лексикализированный, 301 – лексико-грамматический, 329, 359 – лексический, 219, 221, 280, 329, 355, 398 – мертвый, 168 – метафорический, 305, 449 – морфологический, 384 – несобственно, 225, 227 – предложения, 200 – противоположности, 328 – развернутый, 253 – речевой, 168, 200 – речения, 200 – слова, 200 – словесный, 200, 280 569
– сложный, 327 – смежности, 201, 220, 288 – собственно, 219, 225 – стершийся, 168 – сходства, 201, 220, 288 – тавтологический, 288 – тождества, 201, 220, 288 – языковой, 168, 280 Троп-термин, 168 У Убавление, 116, 120, 221 Увеличение, 203, 265 Удвоение, 193, 365 Удержание, 207, 208, 211, 377, 378 Удлинение, 185 Узус, 93, 98, 115, 243, 258, 336, 349 – речевой, 258 Уклонение от нормы, 104 Уловка, 144 Умаление, 190, 203, 208 Умедление, 192, 208 Уместность, 235 Умножение, 203 Умолчание, 191, 192, 207, 208, 210, 237, 367, 378, 379 Уподобление, 190, 203 Упоминание, 161 Уравнение, 203 Усечение, 118, 186, 194, 342, 372, 475, 485, 487 Уступка, 190, 209 Уступление, 192, 206-208, 211 Усугубление, 192, 207, 208, 365 Уточнение, 210, 239 Уход от тавтологии, 108 Ф Фаллаксия, 399 Фаунизация, 467
Фигура, 7-9, 54, 99, 101-113, 115117, 119-121, 128, 144-147, 151, 152, 154-158, 161, 163, 164, 179, 184-187, 189-195, 197-199, 201, 203, 204, 207-218, 220-224, 226, 227, 233-240, 242, 245, 248, 250, 261, 266, 268, 281, 285, 288, 300, 308, 311, 342, 367, 375, 377, 386, 413, 420, 421, 434, 443, 465, 480, 483, 484 – акцентирования, 237 – алогизма, 373, 420, 421 – вторичная, 479 – выделения, 210, 211 – выражения, 377 – гибридная, 220, 221, 392, 426, 476 – горгиева (горгианская), 191 – грамматическая, 111, 192, 260 – графическая, 219, 221 – двусмысленной речи, 273 – дезэквилибра, 226 – действующая на воображение, 208 – диаграмматическая, 220, 221 – диалогизма, 210, 211 – дикции, 260 – дискретная, 218, 219, 221 – дистантная, 220, 221 – добавления, 193-196, 482 – «задержки», 210 – замещения, 285, 308 – звукоподражательная, 219, 221 – индивидуально-языковая, 223 – интертекста, 195, 236 – каркасная, 363, 398 – качества, 211 – количества, 211 – комического уточнения, 237 – контактная, 220, 221 570
– контраста, 221, 237, 355 – краткой речи, 195 – легкая, 238 – метатезного словообразования, 235, 344 – метафорическая, 299 – мысли, 98, 119, 156, 157, 189192, 208-210, 212, 217-221, 238, 239, 484 – нарочито алогичной речи, 236 – нарочито двусмысленной речи, 236 – нарочито неясной речи, 195 – нарочито пространной речи, 235 – нарочитого алогизма, 195 – нарочитого неправдоподобия, 234, 236 – нарративная, 443 – недискретная, 218-221 – неправдоподобия, 421, 482 – неспециально охарактеризованная, 218, 221, 375, 422, 460 – нетропеическая, 217, 219-221 – образности, 281 – обратного отклонения, 479 – окказиональной деривации, 347 – описания, 236 – отвлечения эпитета, 369 – отношения, 211 – отрицания, 220 – паронимии, 274 – паронимическая, 219, 221 – переосмысления, 186, 281 – перестановки, 189, 220, 221, 483 – пленяющая сердце, 208 – повествования, 444 – повествовательного дискурса, 443 – повторения, 196 – поэтическая, 192 – предложения, 206-208
– прибавления, 189, 196, 220, 221 – пространности состава слов, 194 – противоположения, 195, 196, 483 – противоположности, 196 – развертывания, 362 – размещения, 196, 220, 221, 274 – расположения, 196 – распространения, 211 – речемыслительная, 239 – речения, 206, 207 – речи, 7, 10, 11, 101-105, 108, 111, 112, 115, 117, 144, 146, 147, 155, 167, 184, 185, 195, 197, 199, 209, 210, 212-214, 238, 239, 258, 285, 324, 362, 445 – риторическая, 111, 112, 114, 155, 158, 190, 192, 206, 210, 212, 216, 220, 239, 250 – синтаксическая, 108, 119, 390, 480 – слова, 119, 189, 191, 206, 207, 217, 221, 238-240, 484 – словесная, 151, 187, 188, 190192, 219, 238 – слоговая, 261 – смежности, 221 – смысловая, 187, 190 – совмещения, 308, 400 – содействующая силе выражения, 211 – содержания, 377 – созвучия, 194, 196, 483 – сокращения, 194-196, 211, 483 – состоящая в излишестве слов, 207 – состоящая в недостатке слов, 207 – специально охарактеризованная, 217, 218, 220, 221 – стилистическая, 102, 103, 111, 117, 119, 121, 145, 146, 148, 184, 210, 217, 239, 307, 328, 379, 400
571
– суггестивная, 210 – сходства, 207, 221 – текстовая, 420 – тождества, 221 – тропеическая, 217, 219, 221, 286, 287 – тяжелая, 239 – убавления, 189, 196, 220, 221, 375 – убеждающая разум, 208 – удлинения слова, 264 – украшающая речь повторением слов, 207 – умолчания, 119 – уточнения мысли, 237 – уточняющая контакт со слушателями, 210 – уточняющая отношение к предмету, 210 – уточняющая позицию оратора, 209 – уточняющая смысл предмета, 209 – фонемная, 261 – формы выражения, 444 – формы содержания, 444 – целостная, 218 – чужой речи, 371, 373 – эквилибра, 226 – экспрессивной деривации, 236 – эллиптическая, 445 – эмфатическая, 210 – этимологическая, 227, 414 – языковая, 115, 146, 258 Фигурный текст, 236 Филофронезис, 158 Флоризация, 467 Фокус-покус прием, 347
Х Характеризм, характерисма, 156 Хариентизм, 201 Хиазм, 119, 121, 137, 210, 211, 227, 257, 346, 390-392, 420 – звуковой, 392 – простой, 391 – семантически осложненный, 391 – семантический, 137, 420 – синтаксический, 121 Хиатус, 237 Хорография, 156 Хрия, 162, 237 Хронография, 156 Хронотезия, 203, 243, 471, 475 Ц Циркумиция, циркумлокация, циркумлокуция, 319 Цитата, 211 Цитирование, 236 Ш «Шельмование» противника, 159 Шкала, 122, 123, 125-127, 130 Шкалирование нормы, 122 – градационное, 122 Э Эвлогия, 156 Эвфемизм, 189, 200-222, 225, 227, 235, 267, 318, 321, 333 – камуфлирующий, 321 Эвхаристия, 156, 158 Эйкон, 109 Эквивокация, 144, 235 Экзергазия, 210 572
Экскузация, 156, 158 Эксметафора, 168 Эксплеция, 210, 227, 362 Экспрессивное согласование, 403 Экстраполяция, 190 Эксутенизм, 157 Эктазис, 264 Эктлипсис, 266 Экфрасис, 156 Элевация, 218 Эллипс, 367, 376 Эллипсис, 94, 106, 118, 119, 166, 195, 198, 211, 220, 226, 227, 235, 252, 262, 265, 268, 305, 318, 321, 370, 375-377, 380, 398, 443-445 – временной, 443 – звуковой, 262, 265, 268 – контекстный, 376 Эмфаза, эмфазис, 200, 201, 227, 279, 289, 365, 398 Эмфатическая долгота, 265 Эналлага, 211, 227, 476, 477 Энантиота, 190 Эндиадийон, эндиайон, 274 Энклитика, 198 Энкомия, 157 Эпанадиплозис, 364 Эпаналепсис, 193, 227, 364 Эпанартоза, 227 Эпанастрофа, 193, 196, 364, 365 Эпанафора, 119, 364 Эпанод, 193, 196, 237, 394 Эпанодос, 211, 227, 391
Эпентеза, 101, 152, 198, 227, 237, 263, 264, 265, 270, 398 Эпизевксис, 365 Эпимона, 211, 220, 235, 409 Эпиплока, 364 Эписиналефа, 262, 398 Эпистрофа, 363 Эпитет, 155, 188, 192, 200, 210, 211, 227, 236, 281, 288, 289, 309, 323, 330, 357, 476, 477 – живописный, 288 – метафорический, 357 – перемещенный, 476 – сложный, 309 Эпитроп, 156 Эпитрохазм, 235 Эпифонема, 409 Эпифора, 119, 121, 147, 196, 197, 210, 227, 349, 363, 365, 367, 398, 410 – звуковая, 349 – лексико-синтаксическая, 365 – лексическая, 365 – синтаксическая, 121, 367 Эротема, 381 Этимологизация, 236 Этимология, 211, 414, 477 – ложная, 477 – поэтическая, 414 Этиология, 156 Этопея, 210 Эффект уклончивых слов, 436, 475 Эфхаристия, 157 Эциология, 156
Научное издание
Копнина Галина Анатольевна РИТОРИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА: ОПЫТ СИСТЕМНОГО ОПИСАНИЯ Монография
The monograph is devoted to the systematic description of rhetoric techniques used in speech as pragmatically motivated and modeled deviation in its broad (philosophic) sense. Systematic characteristics of rhetoric techniques are described: motivation of deviation, neutralization ability, modeling ability, functional proximity, interaction ability. The classification of rhetoric techniques based on the principles of its structure is offered. For philologists, rhetoric researchers, lecturers, postgraduate students, and all interested in expressive means of the contemporary Russian language and the problems of speech efficaciousness increase in its expressive function.
01.10.2012. . ООО «Ф
», 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17-Б, комн. 324. Тел.: 336-03-11; тел./факс: 334-82-65. E-mail: [email protected]; WebSite: www.flinta.ru
ДЛЯ ЗАМЕТОК
![Корейский язык 2 (조선어배우기 2) [2]](https://dokumen.pub/img/200x200/2-2-2-v-7567820.jpg)
![África parte 2 [2]](https://dokumen.pub/img/200x200/africa-parte-2-2.jpg)
![Privortaj Studoj # 2 [2]](https://dokumen.pub/img/200x200/privortaj-studoj-2-2.jpg)


![Nûdem hejmar-2 [2]](https://dokumen.pub/img/200x200/ndem-hejmar-2-2.jpg)
![Kapital 2 [2]](https://dokumen.pub/img/200x200/kapital-2-2.jpg)
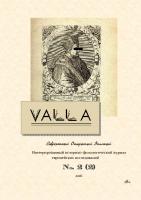
![Populäre Astronomie [2, 2]](https://dokumen.pub/img/200x200/populre-astronomie-2-2.jpg)
![Opera Minora 2 [2]](https://dokumen.pub/img/200x200/opera-minora-2-2.jpg)
![Риторические приемы современного русского литературного языка. Опыт системного описания [2, стереотипное ed.]](https://dokumen.pub/img/200x200/2-nbsped-j-1896087.jpg)